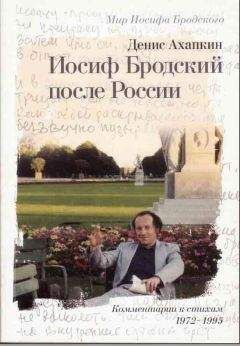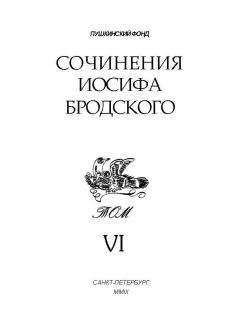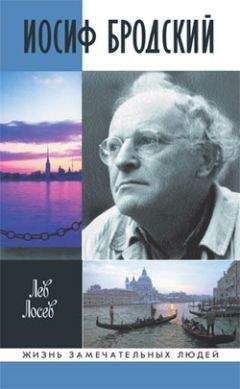Ольга Глазунова - Иосиф Бродский: Американский дневник
Тема противопоставлений в онтологическом философском смысле занимает в структуре стихотворения особое место. "Эклога 4-я (зимняя)" строится на оппозициях: "жизнь — смерть", "прошлое — настоящее", "взрослый — ребенок" и т. д. Лирический герой стихотворения, сознание которого пульсирует между полярными категориями, неизбежно испытывает состояние раздвоенности, неопределенности, неуверенности, определяющее его отношение к окружающему миру.
На уровне языка состояние героя передается с помощью сравнительных конструкций. Сравнительная степень прилагательных и наречий указывает на процесс, на изменение признака в количественном отношении, что позволяет автору избегать точных обозначений в рассказе о себе и о том, что его окружает. Сравните: "роза и незабудка / в разговорах всплывают все реже", "реже снятся дома, где уже не примут", "чаще к вздоху, чем к поцелую", "глаз зимою скорее закатывается, чем плачет", "чем больше лютует пурга над кровлей, / тем жарче требует идеала / голое тело в тряпичной гуще", "чем позднее, тем меньше ртути", "чем больше времени, тем холоднее", "место / играет все большую роль, чем время", "знает больше, чем та сивилла".
В тексте стихотворения встречается множество отрицательных конструкций: "треугольник больше не пылкая теорема", "даль не поет сиреной", "выдох / не гарантирует вдоха, уход — возврата". Обращение к тому, чего нет, позволяет поэту уклониться от разговора о том, что есть или должно быть в окружающей его действительности.
Но далеко не все отрицательные конструкции в тексте связаны с выражением неопределенного значения. Десятая часть "Эклоги 4-й (зимней)" начинается с утверждения отрицанием: "Я не способен к жизни в других широтах" — то есть способен жить только на широте севера.
Торжественно-приподнятый тон первой строфы десятой части звучит как диссонанс в контексте предыдущих размеренно звучащих частей стихотворения. Неожиданный всплеск эмоций на фоне оледенения затянувшейся жизни находит объяснение в следующих за данной строфой предложениях: "Север — честная вещь. Ибо одно и то же / он твердит вам всю жизнь — шепотом, в полный голос / в затянувшейся жизни — разными голосами".
Несущему смерть космическому холоду в стихотворении
Бродского противостоит холод "честного" Севера. Однако не с Севером в настоящее время ассоциируется у поэта место его пребывания, а с полюсом ("Пальцы мерзнут в унтах из оленьей кожи, / напоминая забравшемуся на полюс / о любви, о стоянии под часами"), который в его представлении, как и Космос, не совместим с жизнью: "на обоих полюсах — лютый холод и существование исключено" ("Об одном стихотворении", 1980).
Прославление холода в десятой части стихотворения перерастает в настоящий гимн зиме в двенадцатой части: Зима! Я люблю твою горечь клюквы к чаю, блюдца с дольками мандарина, твой миндаль с арахисом, граммов двести.
Ты раскрываешь цыплячьи клювы именами "Ольга" или "Марина", произносимыми с нежностью только в детстве и в тепле. Я пою синеву сугроба в сумерках, шорох фольги, частоту бемоля точно "чижика" где подбирает рука Господня. И дрова, грохотавшие в гулких дворах сырого города, мерзнувшего у моря, меня согревают еще сегодня.
Воспоминания о детстве наполнены искренней радостью и теплотой. От апатии и сонливости не остается и следа, и речь поэта начинает звучать в полный голос. Самые обычные предметы, связанные у ребенка с зимой, описываются с такой любовью и на таком эмоциональном подъеме, что их присутствие читатель ощущает почти на физическом уровне: сладковатая горечь, которая остается во рту от клюквенного варенья; оранжевые дольки мандарина на белом блюдце, доступные только зимой и поэтому приковывающие к себе внимание детей; терпкий вкус миндаля и арахиса — редкого лакомства в послевоенные годы; тепло домашнего очага.
Звуковые, вкусовые и зрительные ассоциации, которые поэт хранит в своей памяти, переданы настолько ярко, что кажутся реальней окружающей его действительности. Уныло-монотонные интонации сменяются уверенностью и силой, а самые простые вещи из прошлого обретают особый смысл — становятся достойными воспевания.
В книге Евгения Рейна приводится комментарий Бродского относительно последних трех строк двенадцатой части стихотворения: "На странице 122 в двенадцатой строфе "Эклоги 4-й (зимней)" отмечены три стиха: И дрова, грохотавшие в гулких дворах сырого / города, мерзнущего у моря, / меня согревают еще сегодня. На поля выведена стрелка и написано — "Бодлер". Этого я истолковать никак не могу, возможно, кто-нибудь, лучше меня знающий поэзию Шарля Бодлера, поймет, что здесь имел в виду Бродский"[150].
Мне тоже не удалось найти ничего подобного у Бодлера. А вот петербуржцы, детство которых, как и у Бродского, прошло во дворах-колодцах послевоенного города, хорошо помнят сложенные в виде лабиринтов высокие поленницы дров, в дебрях которых любила играть детвора.
Возможно, и не было никакой связи с Бодлером, а эта ремарка понадобилась Бродскому для того, чтобы направить читателя по ложному следу, — избежать сочувствия. Кто знает — все может быть, но после смерти поэта и наше сочувствие, и его опасения уже не имеют значения.
Заключительный раздел, объединяющий две последние части, начинается с обобщенно-философского рассуждения, которое в контексте стихотворения может рассматриваться как вывод: "В определенном возрасте время года / совпадает с судьбой".
Представление жизни человека в виде времен года традиционно: после весеннего пробуждения юности наступает пора зрелости, сменяющаяся осенней промозглостью и зимним холодом старости. Однако для Бродского "зима" наступила слишком рано, так рано, что ее трудно связать с возрастом.
Оледенение, которое внутри себя ощущает поэт, совпадает с зимним холодом внешнего мира, и в этом соответствии среди всеобщего хаоса настоящего он видит возможность обретения равновесия: "в такие дни вы чувствуете: вы правы".
И уже не имеет значения, какой оказалась судьба, "не важно, что вам чего-то не досталось" в жизни, потому что сходство времени года с течением жизни приравнивает вас к остальным людям, лишая статуса трагической исключительности. Наконец все входит в обычную колею, и даже "рядовой фенолог"[151] может справиться с описанием "быта и нравов".
Спокойствие, обретенное с таким трудом, при всей его иллюзорности способно вызвать оптимизм у поэта. В стихотворении "Муха" (1985) Бродский, сравнивая свое состояние с оцепенением еле ползающего насекомого, обращается к нему со словами ободрения, призывает его к сопротивлению: Не умирай! сопротивляйся, ползай!
Существовать неинтересно с пользой. Тем паче для себя: казенной.
Честней без оной смущать календари и числа присутствием, лишенным смысла, доказывая посторонним, что жизнь — синоним небытия и нарушенья правил.
Но одно дело советовать, и совсем другое — следовать советам: не многим удается "смущать календари и числа / присутствием, лишенным смысла" и чувствовать себя при этом удовлетворительно. Замечание поэта о "слюне", которая, "как полтина, обжигает язык" в разговоре о смерти (сравните: слюнки текут), как раз указывает на то, что для Бродского такой вариант неприемлем.
Светлые моменты, которые остались в жизни поэта, связаны с воспоминаниями о том времени, когда "можно надеть рейтузы; / прикрутить к ботинку железный полоз" и отправиться на реку. Возможность в любую минуту вернуться в далекий мир прошлого, скрашивает ледяное однообразие действительности. Голос Музы, за отсутствием у поэта традиционных лирических или гражданских настроений, начинает звучать "как сдержанный, частный голос", более подходящий для беспристрастного перечисления того, что происходит с человеком в реальности. А если нет эмоций, то нет необходимости и в присутствии небесных светил — их может заменить обычная настольная лампа.
Эклога у Бродского из пастушеской идиллии превращается в монолог стоика, так как шаткое равновесие, которое положено в ее основу, трудно назвать идиллическим. Это рассказ человека о своей смерти, написанный перед смертью. Отсутствие в повествовании паники или страха свидетельствует о восприятии поэтом своего конца как некой логической закономерности: все самое дорогое связано с воспоминаниями и уже ничто не удерживает его в этой жизни. Единственное, что ему остается, — предаться философским размышлениям, ибо философия — это наука, которая учит человека не только жить, но и умирать, сохраняя присутствие духа в любых условиях. Так римский философ Сенека, перерезав по приказу императора себе вены, призвал писцов, чтобы на смертном одре описать последние мгновения своей жизни[152].
Возможно, в стоическом отношении к тому, что происходит вокруг, Бродский видел удел поэта. В эссе, посвященном творчеству Роберта Фроста, он писал: "Позиция стоика в равной мере подходит как верующим, так и агностикам; при занятии поэзией она практически неизбежна" ("О скорби и разуме", 1994).