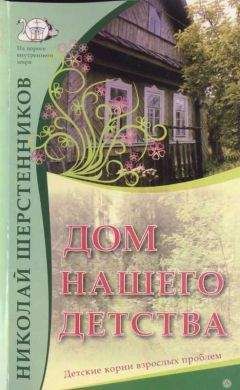Мирон Петровский - Книги нашего детства
Толстой пародирует драму Блока, перевернув фетовский перевертень еще раз — в смысловом отношении: роза, упавшая из рук Изоры, становится розой, упавшей на лапу Азора. Звуковое совпадение имен служит основой для пародийного сопоставления, а платоническое обожание — темой пародии. Палиндром превращается в насмешку над романтической любовью рыцаря, который — на блоковской драматической картине — на звезды смотрит и ждет. Заметим, что у Блока Изора заперта в башне, а ключ непрестанно носит при себе Арчибальд — говорят, он так и спит с ключом, — и тема ключа сопровождает все появления этого персонажа. Наперсницу Изоры в драме «Роза и Крест» зовут так же, как разбойницу-лису в сказке Толстого, — Алисой. Толстому было не впервой пародировать драму Блока, здесь у «Золотого ключика» есть предшественница — повесть «Без крыльев». Озорство этих пародий уравнивает автора с его непрестанно озорничающим деревянным героем.
Строчка «А роза упала на лапу Азора», читающаяся одинаково от начала к концу и от конца к началу, поставлена в центр сказки, сюжет которой тоже образует, условно говоря, палиндром. Замкнутая кольцом композиция выводит Буратино на дорогу приключений, а затем возвращает назад, в каморку папы Карло, и если бы мы вздумали листать сказку в обратном направлении — от конца к началу, то прошли бы почти тот же самый путь, что и при последовательном — от начала к концу — перелистывании. Фетовский палиндром как бы обозначает точку слома сказки: судьба Буратино, катившаяся вниз, несмотря на кажущиеся успехи, с этого момента пойдет вверх, несмотря на многие несчастья, ожидающие героя впереди.
Судьба, изображенная Толстым, — весьма ироничная особа: как иначе объяснить, что в окруженный стеной леса, отгороженный от мира бед и приключений домик красотки Мальвины попадает Буратино? Почему Буратино, которому эта красотка без надобности, а не влюбленный в Мальвину Пьеро? Для Пьеро этот домик стал бы вожделенным «Соловьиным садом» (по Блоку), а Буратино, озабоченный только тем, как здорово пудель Артемон гоняет птиц, способен лишь скомпрометировать саму идею «Соловьиного сада». Вот для этого, для компрометации, он и попадает в «Соловьиный сад» Мальвины.
«Соловьиному саду» противостоит «Страна Дураков», резко отличающаяся стилистически от всей сказки. В плотной реалистической живописи сказки «Страна Дураков» выделяется размытостью рисунка, почти миражной зыбкостью очертаний, как начинающая трилогию «Хождение по мукам» картина выморочного Петербурга, сквозь который — неведомо куда, неведомо зачем — несется поэт миражей Бессонов. По улицам в «Стране Дураков» гуляет лисица (не путать с лисой Алисой!) и держит в руке — то есть в лапе, конечно, — «цветок ночной фиалки». Эта лисица оказывается сказочным эквивалентом тех мечтательных девушек, которые во вступительной главе романа «Сестры» одурманенно замирают над «Ночной фиалкой» Блока. Блоковская поэма рассказывает о сне и, по известному признанию автора, родилась из сновидений, — вот зыбкость сна и пронизывает изображение «Страны Дураков»…
Теперь становится понятно, для чего в предисловии к «Золотому ключику» писатель отнес замысел и повествовательные особенности этой сказки в далекое свое детство, затерянное в поволжской провинции конца девятнадцатого столетия. Кивок в сторону детства — мол, сказка целиком оттуда — заранее отводил возможные упреки, вроде тех, какие были брошены, например, по поводу образа Бессонова. Мистификация вуалировала пародийный слой «Приключений Буратино» переносом сказки в доблоковскую эпоху.
Составитель сборника русской пародии XX века должен будет включить стихи Пьеро из «Золотого ключика» Алексея Толстого как неучтенную до сих пор пародию на Александра Блока. А исследователь проблемы «А. Толстой и русский символизм» должен будет вместе с другими произведениями писателя рассматривать сказку для детей (или, если угодно, — «новый роман для детей и взрослых») — «Золотой ключик, или Приключения Буратино».
Но вот неожиданность: оказывается, стихи Пьеро из сказки Толстого им не написаны. Написаны не им. По крайней мере, в значительной и трудно установимой части, а может быть и целиком, они сочинены Наталией Крандиевской, поэтессой, женой Алексея Толстого.
Их бурный и трогательный роман, начавшийся в 1914 году, и совместная жизнь, продолжавшаяся более двадцати лет, по-разному, в разной мере, в прихотливых преломлениях отразилась и в прозе Алексея Толстого, и в лирике Наталии Крандиевской. Даже места издания ее книг вполне передают извилистую географию их совместных скитаний: «Стихотворения» — Москва, 1913; «Стихи. Книга вторая» — Одесса, 1919; «От лукавого» — Москва-Берлин, 1922. Надо согласиться с В. Грековым в том, что Наталия Крандиевская не просто «писала стихи», «но была хорошим, ясно видящим, чувствующим и мыслящим поэтом. Домашняя аура ее стихов, их исключительно прямая, интимная описательность, отказ Н. К(рандневской) от принадлежности к какой-либо из поэтических групп — все это не способствовало особенной популярности ее лирики. Она и не стремилась к ней. Муза ее всегда была обращена к читателю лишь в профиль — повернута в сторону близкого ей собеседника, которого на самом деле не было…»[246]
В стихах Наталии Крандиевской создавался своего рода культ возлюбленного Алексея: Толстой присутствует там если не портретно, то метонимически — теплом руки, шубой, сброшенной как мешок, запахом трубочного табака «кэпстен», суеверным молением о его здравии. Подобно многим своим современникам — людям «серебряного века» — Крандиевская в молодости пережила увлечение театром и личностью Всеволода Мейерхольда, о чем рассказано в ее воспоминаниях, поэзией и личностью Александра Блока, о чем внятно свидетельствуют ее стихи, хотя бы вот эти:
Над дымным храпом рысака
Вздымает ветер облака.
В глухую ночь, в туманы, в снег
Уносит сани легкий бег…[247]
Эти же блоковские образы одновременно с Крандиевской разрабатывал Толстой, начиная свою трилогию, — на первых же страницах «Сестер». В ракурсе нашей темы особый интерес представляют постоянно звучащие «кукольные» мотивы поэзии Крандиевской — отзвуки марионеточного поветрия той эпохи — и то, что Крандиевская была автором нескольких стихотворных книг для детей, где находим такие, например, строки о мальчике, уходящем с пуделем:
На одном и том же месте
Надоело жить.
Мы уходим верст за двести,
По свету бродить.
А вернемся стариками
В дом родной.
Я с огромными усами,
Пудель — с бородой[248].
Следует ли удивляться тому, что в этих стихах те же образы и та же композиция, которые вскоре сформируют сказку Толстого об уходе и возвращении? Образные миры Толстого и Крандиевской, резко индивидуальные, таили на глубине разветвленную систему сообщающихся сосудов.
Наталия Крандиевская была поэтом небольшим, но настоящим — есть в литературной табели о рангах такая должность; большим поэтом она стала позднее, после того как пережила трагедию ленинградской блокады. Алексей Толстой знал цену ее дарованию, но едва ли придавал значение тому, что оно было совершенно заслонено его, толстовской, массивной литературной фигурой. Для своего требовательного мужа Крандиевская была всем, чем только может быть женщина и жена, — любовницей, матерью детей, домоправительницей, литературным секретарем, медицинской сестрой, редактором, кухаркой, агентом по связям с издательствами, коллекционерами и гастрономическими магазинами, — и поэтом семейной любви, которая все больше переставала быть семейной и любовью.
В конце лета 1935 года, в самый канун «Золотого ключика», Толстой вернулся из-за границы после неудачного романа с Тимошей — Н. А. Пешковой, невесткой М. Горького.
«Отвергнутое чувство заставило его, сжав зубы, сесть за работу в Детском. Он был мрачен, — вспоминала Крандиевская. — Казалось, он мстил мне за свой крах. С откровенной жестокостью он говорил:
— У меня осталась одна работа. У меня нет личной жизни»[249].
Возможно, что в сатирическом изображении любовной пары Пьеро-Мальвина и в «безлюбности» главного героя сказки — Буратино — отразилась душевная опустошенность Толстого осени-зимы 1935 года, результат событий, описанных Крандиевской. Возможно, не только ей, но и своим героям он «мстил за свой крах» — у Буратино тоже нет «личной жизни»…
Участие Крандневской в работе над «Золотым ключиком» Толстой, надо полагать, счел малостью, недостойной внимания. Во всяком случае, он нигде никогда об этом не упоминал. Упомянула — и притом вскользь, мимоходом, между прочим — Крандиевская в своих воспоминаниях, фиксирующих семейный диалог декабря 1935 года: