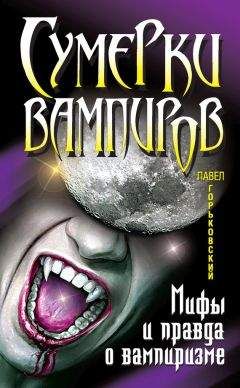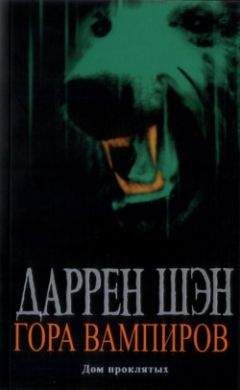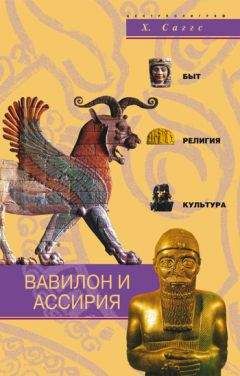Чарльз Данн - Традиционная Япония. Быт, религия, культура
Рис. 76. Питейный дом – иппай номия. Среди посетителей распутный самурай и крестьянин, оставивший свою поклажу с гигантской редькой снаружи. Бочки с сакэ слева оплетены соломой. На заднем плане выдворяют татуированного пьяницу
Чашки с гречневой лапшой (соба), приправленной овощами, пользовались постоянным спросом и, по-видимому, производили во многом такой же восстанавливающий силы эффект, как чашка чаю в Англии. Обычный «готовый» обед состоял из колобка холодного риса с маринованной сливой в середине; существовало множество балаганчиков, где могли продать пиалу чая, чтобы запить такую незамысловатую трапезу. Более вкусными были суси – рисовые колобки, завернутые в сушеные водоросли, в которых могли попадаться кусочки сырой рыбы или вареного осьминога. Яйца, сваренные вкрутую, чистили и ели по дороге. Согревающей едой, которую охотно раскупали зимой, было блюдо одэн – вареные овощи, конняку[80] и соевый творог тофу в соусе. Любители сакэ могли найти то, что им нужно, в питейных заведениях – иппай номия[81], где потребление столь любимого ими напитка не сопровождалось изысканными манерами. Уличных лицедеев можно было увидеть почти на каждом углу, и время от времени происходило еще более увлекательное зрелище: впавший в буйство самурай выхватывал свои мечи, и тогда лучше было держаться от него подальше.
Рис. 77. Сказитель – гидаю. Его балаган выходит на улицу и привлекает самую пеструю аудиторию: слева – мальчуган из лавки, которого отправили доставить товар – моток ткани, висящий у него на плечах. Сказитель пользуется веером и деревянным бруском, которым громко стучит по столу, чтобы акцентировать свой рассказ, которым обычно бывает какое-нибудь кровопролитное историческое событие
Рис. 78. Городской бунт в 1866 г.
Такая жестокость – привычное дело в XVII веке, но не в конце эпохи Токугава, когда деятельность полиции стала более эффективной. В 1600-х годах среди хатамото, или «знаменосцев» (прямых вассалов сёгуна), были молодые люди с обязанностями не слишком обременительными, но все же неплохо оплачиваемыми. Они образовывали банды, одна из которых, например, называлась «банда белых мечей», ее члены носили белые оби и мечи с белыми рукоятями, с лезвиями длиннее обычного. Они переняли эксцентричную манеру одеваться и носили одно короткое кимоно зимой и три длинных летом; зашивали свинец в подол своей одежды, чтобы ее полы раскачивались на ходу. Когда у них кончались деньги, они не оплачивали свои счета; когда деньги у них появлялись, надменно выкладывали монеты крупного достоинства и впадали в ярость, если им предлагали сдачу. Говорят, что, когда одного члена банды схватили сзади, чтобы помешать ему наброситься на кого-то, он отомстил пытавшемуся остановить его – убил ударом меча, которым сначала пронзил себя, а затем удерживавшего его человека. В то же время существовали банды из представителей низших сословий: городских носильщиков, наемных рабочих и им подобных, которые переняли эту моду – носить длинные мечи и часто вступали в кровопролитные схватки с хатамото. Такие городские банды к тому же были организаторами игорных притонов, впрочем, всех их уничтожили к началу XVIII века.
Рис. 79. Ночной страж ворот, идущий на дежурство с колотушкой
В 1733 и 1866 годах возникли волнения иного рода, когда несколько самых обедневших жителей Эдо напали на рисовые лавки. В 1787 году столичный простой люд взбунтовался во время голода, когда цены были очень высоки; такие же восстания прошли в Киото и Нагасаки. Бунтовщики, число которых достигало пяти тысяч в Эдо, в большинстве недавно приехали из сельских районов и в основном зависели от случайных заработков. Злоба бунтовщиков была направлена против владельцев рисовых лавок и богатых торговых домов. Они врывались туда и ломали прилавки и мебель. В таких случаях власти смотрели на это сквозь пальцы, – в конце концов, они ведь нападали всего лишь на торговцев, высокомерие которых нужно было время от времени усмирять. Совсем другое дело, если нападению подвергался самурай. В 1787 году, однако, дело дошло до такого состояния, что пришлось провести тридцать арестов, прежде чем жизнь вернулась в обычное русло.
Одной из мер, введенных для контроля над бандами, была установка в 1645 году ворот в различных районах Эдо. Организации местных жителей должны были обеспечивать дежурство стражей у ворот, и в десять часов вечера ворота запирали на ночь на засовы. Это означало, что люди могли передвигаться лишь в ограниченном пространстве, удаляясь больше чем на несколько сотен ярдов от своего дома. На восходе ворота открывались.
Ворота не оставляли без присмотра, поскольку в случае пожара они должны быть открыты.
Существует известная легенда о девушке по имени О-Сити, дочери зеленщика, которая влюбилась в молодого монаха, когда ее семья попросила убежища в его храме после пожара, в котором сгорел их дом. После возвращения ее страстное желание встретиться с ним подтолкнуло ее устроить еще один пожар, чтобы открыли ворота и он смог прийти к ней. К несчастью, она была арестована, а потом сожжена за свое преступление.
Рис. 80. Театр в 1804 г. Этот набросок для цветной гравюры изображает театр в административном районе Сакай в Эдо по случаю премьеры сезона в месяц одиннадцатой луны. Явно видно все характерные черты театра того времени. В зрительном зале находятся несколько самураев, держащих свой большой меч с поднятой как можно выше рукоятью
Рис. 81. Инструменты для борьбы с пожарами и пожарная вышка
С 1600 по 1866 год произошло около двадцати крупных пожаров и три сильных землетрясения, не говоря о том, что неоднократно горел замок, но не сам город. Три самых серьезных пожара произошло в 1657 году (когда погибло сто восемь тысяч человек, а полгорода выгорело дотла), в 1772 году (намеренный поджог грабителя уничтожил больше половины Эдо) и в 1806 году (сгорел восточный район города, в том числе почти все жилища воинского сословия). Также вспыхивало несчетное число небольших пожаров, которым не дали разгореться. Чтобы сгореть дотла японским домам, построенным из смолистого дерева и с перегородками из бумаги, много времени не требовалось. Если же дул сильный ветер, ситуация могла быстро выйти из-под контроля. Вот почему люди хранили ценности в несгораемых хранилищах или в сундуках на колесиках, позволяющих легко вывезти добро на улицу через бумажные стены-сёдзи. Японцы всегда были готовы мгновенно собрать все, что можно было унести, и покинуть свои дома.
Как заметил Кэмпфер, пожарные отряды были хорошо организованы. В 1629 году центральное правительство учредило первый из них, а вскоре к решению этой проблемы подошли с разных сторон. На соломенные или тростниковые крыши наложили запрет, хотя покрытие деревянной щепой дозволялось. Большие кадки с водой и множество ведер оставляли на улицах. Открытые пространства расчищали, а улицы расширяли, чтобы огонь не мог легко перекинуться на противоположную сторону. К концу XVII века даймё и центральным правительством были организованы команды в основном для защиты от пожара замка и окружающего его кольца самурайских владений, их примеру последовали купцы, чтобы защитить свою собственность. Команды пожарников были организованы правительством во многом так же, как полиция. Они были одеты в защитную кожаную одежду с капюшонами и каски. Горожане нанимали строителей, чаще кровельщиков и черепичников, и одевали их в толстые хлопковые робы. Для разбрасывания горящих кровель использовали крючья, с 1760 года появились деревянные водяные насосы, подающие потоки воды. По всему городу возвели пожарные вышки и оснастили их колоколами, чтобы подавать сигнал тревоги. Расстояние до огня и масштабы пожара определяли по ритму и силе ударов в колокол. Без сомнения, многие серьезные пожары были предотвращены быстрыми и решительными действиями.
Рядовые горожане были лишены некоторых развлечений, в отличие от тех, кто стоял выше на общественной лестнице, особенно в первую половину эпохи Токугава. Позднее, когда самураи, которым не хватало жалованья, стали зарабатывать деньги ремеслом и торговлей, сословные барьеры начали стираться, и богатые купцы, стремясь вырваться из своей социальной среды, не только усвоили манеру поведения и привычки, прежде считавшиеся нехарактерными для их сословия, но и взяли за правило покупать усыновление в семьях самураев для себя или своих отпрысков. Однако в XVII веке горожане уже находили для себя новые развлечения, и большую популярность приобрели два связанных между собой явления – бытовой театр и район борделей.
Правительство Токугава относилось к проституции с практицизмом, характерным для военных умов. Оно признавало, что низшие чины нуждаются в выходе сексуальной энергии, но было очень обеспокоено тем, чтобы обеспечить надлежащий контроль и не давать слишком большой свободы. Поэтому в больших городах власти узаконили «веселые кварталы» – районы, где были сконцентрированы публичные дома и где за ними можно установить наблюдение; путешественникам тоже дозволялось развлекаться: на почтовых станциях главных дорог всегда можно было найти женщин по сходной цене. «Веселый квартал» Эдо был известен как Ёсивара, название, которое изначально означало «камышовая пустошь» (этот район прежде представлял собой болотистую местность). Позднее один из иероглифов, используемых в названии, был заменен на другой с тем же произношением, но иным значением; название теперь стало «счастливая равнина». Сначала район Ёсивара оказался не слишком счастливым, поскольку между его основанием в 1617 году и 1643 годом он горел не менее четырех раз; отчасти из-за этого и отчасти из-за расширения города он оказался в смущающей близости от центра. Район развлечений был перенесен в определенное место на восточной окраине города, где и оставался до своей окончательной ликвидации после Тихоокеанской войны[82].