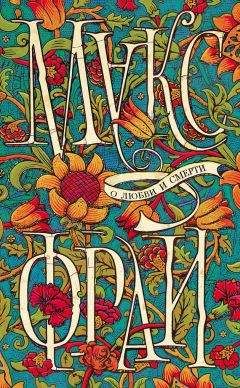Валерий Мильдон - Санскрит во льдах, или возвращение из Офира
Еще одна утопия XVIII в. — роман М. М. Щербатова «Путешествие землю Офирскую г — на С. швецкого дворянина» (1784). Автор сразу определяет вымышленную страну: «Но если чем она достойна примечания, сие есть: мудрым учрежденным правлением, в коем власть государская соображается с пользою народною<…>ласкательство прогнано от царского двора, и истина имеет в оный невозбранный вход…» (РЛУ, с. 38).
Незначительное, но все же сходство с Сумароковым и отличие от Мерсье: сказано о пользе народной, а не об интересе или пользе отдельного лица.
Герой Щербатова отправляется в Индию, буря заносит судно в неведомые места, «куда еще, колико известно, ни един европейский корабль не проникал из‑за великих льдов, окружающих антарктический полюс…» (с. 41). К изумлению персонажа, встретившие их люди говорили на санскрите, и это сочетание языка теплых краев с холодом льдов — характерная метафора книги Щербатова.
Выяснилось, что неведомая страна — это Офирская империя. Хотя автор очень прозрачно «шифрует» этим названием империю Российскую, но слово «Офир» произнесено, и оно придает роману оттенки, автором не предполагавшиеся.
Как бы ни уводил писатель своего героя за полярный круг, во льды, Офир обозначает теплую страну. Во 2–й книге Паралипоменон повествуется о том, как Соломон строил дом Господен, привозя для украшения золото из Офира (8, 18; 9, 10). Офирское золото поминают Иов (22, 24; 28,16), Исайя (13, 12). Вероятно, из Ветхого Завета Щербатов знал эту страну, местоположение которой современная наука пока не устанавливает с достоверностью, предполагая все же Индию (порт Супара в 60 км. севернее Бомбея)[7].
Такое сочетание — санскрит во льдах — есть, я думаю, непреднамеренная метафора, обозначающая и абсолютную, к прискорбию автора, невероятность описанного (как невероятна речь Юга среди полярных льдов); и условия хотя и не соответствующие исторической России (как санскрит и льды), но не невозможные. «Мы нашли… такие знаки человеколюбия и благоволения, что каждый из нас сему Удивлялся, и мы считали [что как бы] не к незнаемой земле приближались, но к земле отечества нашего, и не неведомый народ зрим, но братьев и родственников» (с. 43).
Санскрит во льдах в качестве метафоры может быть и мечтой о небывалом, которое хорошо лишь в качестве небывалого, вечно манящей грезы; и одновременно как порядок, которого — вопреки его несбыточности — следует добиваться, допуская, что подобная настойчивость, выраженная в слове, вызовет желанные перемены. Этот «магический» дух утопии невольно выразил Щербатов образом санскрита во льдах, хотя только таким толкованием образ не исчерпывается, ибо у него имеется значение «утопии» в самом точном смысле — «отсутствующее место», «нигдея», что согласно со сценой, где г — н С. знакомит одного из местных мужей с географической картой мира. Тот, «обратя свои взоры к полуденному полюсу, улыбнувшись, сказал, что, конечно, в сем пустом месте надлежит быть нашей стране, но за незнанием оной сие место пустым оставлено» (с. 54).
Офир в системе щербатовских метафор — пустое место, и утопия русского писателя словно предполагает порядок, возможный лишь на пустом месте, где история начинается как бы сначала. У этой пустоты нет строгого, единственного смысла. Она и пустота — синоним утопии, но место пусто и потому, что неизвестно, что в нем есть. Офирская земля становится разновидностью призрачного Китеж — града. Призрачность (то ли есть, то ли нет), оптическая игра, затрудняющая окончательное суждение, — одно из свойств поэтики русской литературной утопии. Не в последнюю очередь поэтому ею любимы ситуации сна: у этого типологического для жанра утопии приема на русской литературной почве имеется добавочное объяснение. Сон — знак надежды на осуществление того, что принципиально неосуществимо (след архаико — магической психологии). Вот почему социальные фантазии и рецепты русской утопии XVIII в. обладают признаком, отсутствующим у западноевропейских утопий, — пафосом реализации. Русская литературная утопия, оставаясь жанром (как утопия западноевропейская), одновременно является социальным проектом, рассчитанным на исполнение. Возможно, в этой разнице следует искать ответ на вопрос, почему в России взялись реализовать социальную утопию коммунизма. Предварительный ответ таков: потому что, ощущая ее нереальность, вместе (и, не исключено, потому, что ощущалась нереальность) с такой страстью хотели, чтобы стало так, что невысказанно, несформулированно были убеждены: да, не бывает, чтобы пустое место стало полным, но нет ничего, что бы не отступило перед горячим и страстным порывом, материальный мир всегда заведомо слабее воли (все та же архаическая племенная, психология).
В главе 18 «Кандида» Вольтер, в сущности, тоже ведет разговор о благих социальных условиях (страна Эльдорадо). В отличие от русских авторов, у него преобладает язвительная критика существующих условий, однако из нее не следует, что автор надеется на перемены. Его критика — в значительной степени литературный прием, разновидность художественной публицистики, тогда как создатели русских утопий рассчитывают на преобразования, о которых пишут. У Вольера в западноевропейской утопии преобладает «литературность», у русских писателей — «социальность» с очень сильным настроением «магизма»: если написано, не может быть, чтобы действительность не потеснилась, не нашла места для того, о чем сказано в книге, ибо сказанное имеет значение не меньшее, а то и большее, нежели реально существующее. Слово больше жизни, по крайней мере, ей равно.
Такой «практицизм» русской утопии коренится в ее «непрактичности», ее материальные расчеты исходят из идеальных побуждений — сочетанием взаимоисключающих сил объяснимо, почему реализация идеального проекта обернулась крахом; почему этот крах не убедил в бессмысленности подобных попыток; почему не взяли в соображение, что западноевропейский мир, создавший и жанр литературной утопии, и теорию утопии социальной, не додумался до их внедрения в практический обиход.
В России же, заимствуя на Западе и жанр, и социальную теорию, не позаимствовали западной «непрактичности», оказавшейся очень практичной. Что ж, можно перенять едва ли не любую идею, нельзя заимствовать характер, натуру, которые обойдутся с идеей по — свойски.
Сопоставляя русские литературные утопии XVIII столетия с французскими, видно, что они отличаются именно этими чертами: русская «практична» потому, что исходит из идеальных побуждений и не задумывается над средствами реализации; идеал волнует сильнее. Французская (а шире — западноевропейская) утопия, сколь ни были бы идеальны ее побуждения, соизмеряет их с условиями практической реализации — вот почему западные утопии «непрактичны» и остались в книге, русская же утопия в конце концов перешла из книги в жизнь, чтобы заполнить «пустое место», превратив его в «место благое». Конечно, ничего не получилось, но, повторяю, из этого нельзя извлечь урока, во всяком случае, не извлекают.
О чем, по мнению читателя, говорят следующие строки? «В сущности, перед нами довольно тривиальная картина полицейского государства, где благополучие граждан достигается при помощи самой мелочной правительственной регламентации всего жизненного распорядка, начиная от мероприятий по санитарному благоустройству улиц и жилищ и кончая всеми наиболее интимными подробностями частного личного существования»[8].
«Мы» Е. И. Замятина, «Прекрасный новый мир» О. Хаксли, может быть, «1984» Д. Оруэлла? Или речь идет о практике сталинизма? Заранее ясно, что ни одно из предположений не годится. Это — оценка известным русским историком романа М. М. Щербатова. Но разве чувствуется в этой оценке почти двухсотлетняя граница, отделяющая «Офирскую землю» от «Мы» или нашего недавнего прошлого? Вынужден повторить то, о чем подробно писал в книге «Открылась бездна…» Для русской литературной утопии, как и для русской драмы, время не имеет значения, поскольку не временем (и в книге, и в реальности) объясняется смысл происходящего и не от времени зависит.
В дополнение к тому, о чем говорилось в только что упомянутой книге, прибавлю: одна из причин «безвременья» коренится в том, что практические средства, необходимые для воплощения идеального проекта, рядом с ним кажутся второстепенными, о них не рассуждают, словно допуская, что это само приложится, а ведь этими‑то средствами и определяется отношение к времени: есть ли они сейчас, в настоящем; появятся ли в будущем; достаточны ли для этого основания в прошлом?
В названной статье о романе Щербатова Кизеветтер пишет, цитируя автора (в 1900 г., напомню), что в Офирском государстве «нет ни единого гражданина, которого бы в школах не учили правам и законам их страны». «Вздохнул я, — продолжает герой Щербатова в цитате историка, — слыша сие, подумав: знать, что в Европе находят сие естественно, где разве тысячная часть токмо знает свои права и законы страны, под которыми они живут». «Не приходится ли нам, — вопрошает ученый, — вступающим в XX столетие, только повторить этот тяжелый вздох?»[9].