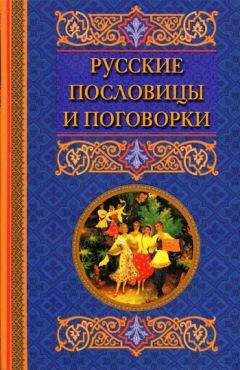Уильям Йейтс - Кельтские сумерки
Впервые я услышал эту песню от одной старухи, жившей в двух милях выше по реке, — она еще помнила и Рафтери, и Мэри Хайнс. Она говорила мне: «Никогда я не видела никого красивее, чем она, и никогда уже не увижу, до самой моей смерти», — он же был совсем, почитай, слепой и «жил одним только, ходил из дома в дом, а соседи все собирались его послушать. Если ты с ним, к примеру, хорошо обошелся, он тебя в стихах же и восхвалит, а если нет — проклянет тебя по-ирландски. Он был самый великий поэт во всей Ирландии и даже о кусте мог сложить песню, если ему случалось, скажем, под кустом стоять. Был один такой куст, под которым он спрятался от дождя и сложил ему хвалу в стихах, а потом, когда вода стала-таки протекать сквозь листья, сложил хулу». Она спела ту первую песню мне и моему другу[20] по-ирландски, и каждое слово в ней было звучным и сочным, какими и были, мне кажется, слова в каждой песне до тех пор, покуда музыка не зазналась и не расхотела быть простою одеждой для слов, текучих, изменчивых с током ритмов и смыслов, берущих друг от друга силу. В песне не было той естественности и прямоты, что свойственна лучшей ирландской поэзии уходящего века, ибо мысль облечена в ней в форму слишком уж традиционную — старый, нищий, слепой наполовину поэт, сложивший ее, вынужден поэтому говорить как богатый фермер, готовый все свое достояние положить к ногам любимой женщины; но есть в ней наивные и нежные строки. Часть песни перевел на английский мой друг, но большую часть перевели для нас сами крестьяне. Мне кажется, вы найдете в ней ту простоту ирландского стиха, которой недостает большинству переводов.
На все Божья воля, я к церкви шел.
Бил ветер, и дождь хлестал.
Попалась навстречу мне Мэри Хайнс,
И я полюбил ее в тот же миг.
Учтиво и ласково к ней обратился я,
Мне люди сказали, как с ней говорить,
Она же сказала мне: «Рафтери, слов не трать.
Ты можешь прийти ко мне в Баллили».
Сказала так, и я мешкать не стал,
Ноги — в пляс, и душа занялась.
Три поля всего-то прошли мы в тот день
И засветло были в Баллили.
Стаканы на стол и четверть вина
Поставила Мэри и села со мной,
И сказала мне: «Рафтери, пей до дна.
Глубокий погреб в Баллили».
О звезда моя светлая, солнце в ночи,
О янтарноволосая доля моя,
Пойдешь ли со мной ты в воскресный день
И скажешь ли ты мне «да» при всех?
Что ни вечер, я песню сложу тебе,
И будет вино, коль захочешь вина,
Но, Господи, сделай легким мой путь.
Пока не дошел я до Баллили.
Сладок воздух на склоне холма.
Когда глянешь ты вниз на Баллили,
Когда ты выходишь в луга за орехами и ежевикой,
Звучит там музыка птиц и музыка ши.
Что толку в славе, когда цветы
Отдали свет твоему лицу?
И ни Богу на небе, ни людям холмов
Не затмить и не спрятать его.
Нет места в Ирландии, где б я ни прошел,
От рек и до горных вершин,
И до берега Лох Грейн, чьи скрыты уста.
Но нигде я не видел красы такой.
Светлы ее волосы, светел взор,
И сладки уста ее, словно мед.
Тебе цветы мои, гордость моя.
Цветок сияющий Баллили.
Такая она, Мэри Хайнс, прекрасна
И телом она, и лицом, и душой.
И если бы писарей сотню собрать,
Не хватит им жизни, чтоб описать ее.
Старый ткач, сын у которого ушел, говорят, однажды ночью с ши (то есть с фэйри) да так и пропал, рассказывал мне: «Не было ничего на свете красивее, чем Мэри Хайнс. Мать мне о ней рассказывала — как она не пропускала ни единого хёрлинга во всей округе, и где бы она ни появилась, одета она была всегда только в белое. Как-то раз за один день одиннадцать мужчин кряду попросили ее руки, и всем она отказала. Однажды в кабачке за Килбеканти на холме сидела целая компания тамошних парней, выпивали, как водится, и говорили о Мэри Хайнс, и один из них встал и отправился прямо к ней в Баллили; болото Клун тогда еще не засыпали, он забрел туда и свалился в воду, там его наутро мертвым и нашли. Она умерла от лихорадки, которая ходила в здешних местах как раз незадолго до голода».[21] Другой старик рассказывал, что он видел ее совсем еще мальчишкой, но помнил прекрасно, как «самый сильный из наших мужчин, Джон Мэдден, помер из-за нее, потому что плавал каждую ночь через речку, чтобы добраться до Баллили, и в конце концов застудился». Вполне возможно, что они рассказывали об одном и том же человеке, потому как предание, переходя из уст в уста, способно умножаться до бесконечности. В Деррибрин, в горах Ахтга, местах безлюдных и диких, вряд ли сильно изменившихся с тех пор, как спелось в первый раз в древней теперь уже песне: «олень на вершинах Ахтга слушает волчий вой»,[22] но где жива еще память о прежней поэзии и прежнем достоинстве ирландской речи, живет одна старуха, которая помнит Мэри Хайнс. Вот ее слова: «Луна и Солнце никогда не светили с неба женщине столь красивой, кожа у нее была такая белая, что казалась голубой, и на каждой щеке — по маленькому пятнышку румянца». Еще одна старуха, которая живет неподалеку от Баллили, говорила мне так: «Я часто видела Мэри Хайнс, она была и впрямь красавица. Я видела и Мэри Моллой, которая утопла потом в речке, и Мэри Гэтри из Ардрахана, но обеим было до нее далеко, уж очень она была славная. Я и на поминках у нее была — столько она всего в жизни повидала. Она добрая была. Шла я, помню, как-то раз домой через нижнее поле и устала, просто сил нет, и кто как не Пойзин Глегейл (Сияющий Цветок) вынес бы мне из дому стакан парного молока». Старуха имела в виду просто яркий светлый цвет, вроде серебряного, потому что, хотя и говаривал про нее один тамошний же старик — он теперь уже умер, — что ей ведомо «лекарство от любой напасти», то самое, какое есть у сидов, но золота она в жизни видела слишком мало, чтобы помнить, какого оно цвета. Вот свидетельство еще одного человека, с побережья, неподалеку от Кинвары, слишком молодого, чтобы помнить Мэри Хайнс: «Все говорят, что теперь таких красивых людей уже нет; волосы у ней, говорят, были просто чудесные, цветом как золото. Она была бедная, но одевалась каждый день как на праздник, такая была аккуратная. А если она где-нибудь появлялась, люди начинали, раз ее увидев, друг друга из-за нее убивать, и очень многие были в нее влюблены, только вот умерла она совсем молодая. Люди, они так говорят: никто, мол, про кого сложат песню, долго не живет».
Тех, кем восхищаются люди, рано или поздно похищают сиды, которые умеют использовать всякого рода сильные людские чувства себе на пользу и могут сделать так, что отец сам отдаст им в руки своего ребенка, а муж — жену. Те, кого любят, те, кого добиваются многие, только тогда в безопасности, если каждый, кто глянет на них, скажет при этом: «Господи, благослови их». Старуха, которая спела мне песню, была уверена, что Мэри Хайнс «увели». Вот собственные ее слова: «Они ведь уводили и не таких красивых, и много, почему бы им не взять и ее тоже? А люди-то издалека приезжали, чтобы на нее посмотреть, может, и не все говорили: Господи, благослови ее». Старик, который живет у моря невдалеке от Дьюраса, тоже не сомневается, что ее увели: «Кое-кто в наших краях помнит еще, как она приходила сюда на паттерн,{3} и все говорят, что красивее девушки в Ирландии не было и нет». Она умерла молодой, потому что ее любили боги: может быть, когда-то давно поговорка эта,[23] которую мы разучились понимать буквально, как раз и имела в виду подобный способ смерти: сиды ведь и есть боги. Эти бедные крестьяне в верованиях своих и чувствах на много веков ближе к древнему греческому миру, привыкшему видеть красоту отделенною от мутного потока видимых форм, чем ученые наши мужи. Она «слишком много повидала на своем веку»; но старики эти и старухи винят в том не ее, а всех прочих; память у них цепкая и злая, и на язык им лучше не попадаться, но если речь заходит о ней, они просто тают на глазах, как растаяли когда-то троянские старцы, увидав идущую мимо стен Елену. Поэт, прославивший ее на всю округу, сам был в западной части Ирландии не менее славен. Кое-кто считает, что Рафтери видел едва-едва, и говорят так: «Я видел Рафтери, он человек был темный,[24] но и ему хватило глаз, чтобы ее разглядеть»; другим же помнится, что он был и вовсе слеп, хотя, может быть, правы и те, и другие: он ведь мог окончательно ослепнуть к концу жизни. Предание каждое качество доводит до крайности, до совершенства, и если уж человек слеп, значит, он никогда не видел света солнца. Как-то раз, когда я искал пруд Na mna sidhe, то есть тот, где видели женщину-фэйри, я спросил одного человека, как Рафтери мог видеть Мэри Хайнс и так восхищаться ею, если он был совершенно слеп. Он ответил: «Я и правда думаю, что Рафтери был слеп на оба глаза, но у слепых есть свой особый способ видеть мир, и у них есть власть знать больше и больше чувствовать, больше делать и о большем догадываться, чем у нас, у зрячих, им дан особый склад ума и особенная мудрость». И всяк скажет вам, что он был действительно мудрец, а как же иначе, он ведь был не только слепой, но и поэт. Тот ткач, слова которого о Мэри Хайнс я уже приводил, сказал о Рафтери: «Его поэзия была ему — дар от Всевышнего, ибо есть три вещи, которыми Всевышний оделяет людей, — поэзия, танец и умение себя вести. Поэтому в прежние времена человек совсем необразованный, человек, который только что спустился с холмов, умел вести себя лучше и знал куда больше, чем современный какой ваш ученый, у них-то это было от Бога»; а в Кули один человек сказал мне: «Когда он прикладывал к одной стороне головы палец, ему открывалось все, и он мог говорить как по писаному»; и вот еще слова одного пенсионера из Килтартана: «Он стоял однажды под кустом и говорил, а куст отвечал ему по-ирландски. Некоторые говорят, что отвечал сам куст, но, скорей всего, в нем сидел какой-нибудь дух, и он мог ответить Рафтери на любой его самый сложный вопрос. Куст тот потом высох, он и сейчас еще стоит на обочине, по дороге отсюда в Рахасин». У него есть какая-то песня о кусте, которую мне так и не удалось разыскать, и кто знает, не она ли стала первоосновою этой истории, выварившись вдоволь в колдовском котле Предания.