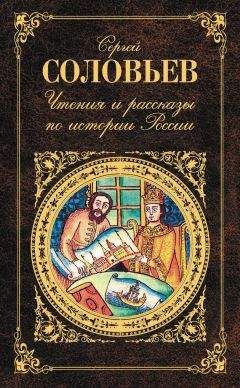Поль де Ман - Аллегории чтения. Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста
Кажется, будто описание остается в рамках бинарной системы, в которой животное и человек, природа и культура, действия (или вещи) и слова, особенность (или отличие) и общность, конкретное и абстракция противостоят друг другу. Такого рода антитезы допускают диалектические оценки, и хотя этот отрывок «Второго рассуждения» (3:149—150; 60-62) относительно свободен от оценочных суждений (ничто не говорит о врожденном превосходстве природы над искусством или практического поведения над умозрительной абстракцией), он тем не менее предлагает истолкователю оценить его. Самые резкие оценки этого отрывка и ему подобных исходят из того, что напряженные отношения находятся в самом языке, подчеркивая, что рассматриваемая полярность присутствует в структуре лингвистического знака, и это — установленное Руссо различение деноминативной и концептуальной функций языка. И в самом деле, текст отличает акт наименования [denomination] (дерево А и дерево Б), приводящий к буквальному наречению собственным именем, от акта концептуализации. А концептуализация, которая считается обменом свойствами на основании их сходства или подстановкой одного из них вместо другого, точно соответствует классическому определению метафоры, использовавшемуся в теориях риторики от Аристотеля до Романа Якобсона[155]. В таком случае различие, которое проводит текст, в некотором смысле окажется отличием фигурального, коннотативного и метафорического языка, с одной стороны, от деноминативного, референциального и буквального — с другой, и эти модусы будут антитетически противопоставлены друг другу. Можно будет и оценить их, вознося один модус над другим.
Коль скоро Руссо утверждает временную первичность собственного имени по отношению к понятию («Каждый предмет получил сначала свое особое название» [3:149; 60]; «Первые существительные никогда не могли быть ничем иным, кроме как именами собственными» [3:150; 61]), отсюда и в самом деле, в соответствии с генетической логикой повествования, следует, что он отделяет буквальную форму языка от метафорической и возносит первую над второй. Современный комментатор[156] удачно подвел итог традиции толковать Руссо подобным образом, почти единодушно принятой исследователями его творчества, при этом вполне уместно сославшись на Мишеля Фуко: «Вся история творчества Руссо, переход от „теории" к „литературе",— это перенос потребности называть мир на саму первую потребность в наименовании. Назвать мир — значит сделать так, чтобы представление о мире совпало с самим миром; назваться — значит сделать так, чтобы мое представление о мире совпало с представлением, которое я передаю другим»[157]. Возрастание субъективных и автобиографических моментов в рассуждениях Руссо стало бы просто распространением референциальной лингвистической модели, властвующей над его мышлением, на сферу «я». Неудачные попытки «назвать» субъект, открытие, что «lе sujet est l'innomable»[158], как выражается Гроришар, подрывают авторитет собственного языка Руссо. К тому же это объединяет его с Кондильяком и вообще со всеми последователями Локка в рамках того, что ниспровергатель Фуко называет «lе discours classique». При рассмотрении «Второго рассуждения» такого рода истолкование привело бы к выводу, что текст поистине непоследователен, поскольку ему неподвластно противостояние концептуальной метафоры «естественное состояние» и буквальной действительности гражданского общества, противостояние, наличие которого отстаивает само «Рассуждение». Более того, поскольку текст начинается с метафоры, он обращает вспять отстаиваемую им первичность наименования по сравнению с коннотацией. В таких прямо посвященных проблемам «я» текстах, как «Исповедь» или «Диалоги», эта непоследовательность была бы, по крайней мере, высказана открыто, тогда как псевдоконцептуальный язык «Второго рассуждения» просто вытесняет ее.
Прежде чем рассмотреть саму эту схему убеждения, мы должны вернуться к одному из отрывков «Рассуждения» и к соответствующему месту «Опыта о происхождении языков»[159]. В самом ли деле Руссо отделял фигуральный язык от буквального и правда ли, что он возносил один тип рассуждения над другим? Простого ответа на этот вопрос не дашь: в «Рассуждении» говорится, что «первые существительные никогда не могли быть ничем иным, кроме как именами собственными»; «Опыт» с равной уверенностью заявляет, что «первый язык был образным» и что «фигуральное значение возникает до значения собственного» («Essai». Р. 506; «Опыт». С. 226, 227). А пытаясь понять наименование в творчестве Руссо, «проходя сквозь язык до тех пор, пока не достигнем точки, в которой слова и вещи связаны воедино в своей общей сущности»[160], как выражается Фуко, мы обнаруживаем, что во «Втором рассуждении» наименование ассоциируется с различием, а не с тождеством. Примечание к изданию 1782 года прибавляет к описанию наименования («Если один дуб назывался А, то другой дуб назывался Б») такое вот суждение: «Ибо первая идея, которую мы выводим из двух вещей,— это, что они не одно и то же; часто уходит очень много времени, прежде чем откроешь, что же между ними общего». Если это так, следует признать наблюдателя, воспринимающего различие столь тонко, что ему не дано заметить сходство между одним дубом и другим, неспособным выделить отличия слова а от дерева А настолько, чтобы увидеть их связанными друг с другом в некоторой «общей сущности». Другая сложность: следуя традиционному прочтению Руссо, представленному здесь Аленом Гроришаром, мы хотели бы постичь акт наименования во всей прозрачности его неконцептуальной буквальности. Вместо этого мы обнаруживаем, что «первые изобретатели [слов] могли дать названия лишь тем понятиям, которые у них уже были...» (3:150; 61), а в этом предложении слово «понятие» («idee»), невзирая на всю свою до-кантианскую эмпирицистскую конкретность, обозначает изначальное присутствие в самом акте понимания некоторого рода концептуальности (или метафоры). Более того, из предыдущей цитаты нам известно, чем должна быть эта «idee premiere»: это — идея различия («первая идея, которую мы выводим из двух вещей...»). Но если все сущие тождественны в том, что они отличаются друг от друга, и только потому и являются сущими, тогда подстановка подобия вместо различия, характерная, с точки зрения Руссо, для всего концептуального языка, встроена в сам акт называния, в «изобретение» собственного имени. Невозможно решить, буквально наименование или фигурально: с того момента, как произошло наименование, подразумевается концептуальная метафора сущности как различия, и где бы ни встречалась эта метафора, неизбежно буквальное наименование частного сущего: «Попробуйте представить себе образ дерева вообще — это вам никогда не удастся: помимо вашей воли, вы должны будете увидеть его маленьким или большим, густым или с редкою листвою, светлым или темным» или «как только вы представите себе треугольник в уме, то это будет именно такой-то треугольник, а не иной, и вы обязательно придадите ему ощутимые линии или окрашенную плоскость» (3:150; 61). Не приходится ли нам заключить, что парадоксы Руссо скрывают серьезные противоречия и что, создавая «Рассуждение», он не помнил, что написал в «Опыте», и наоборот? Быть может, лучше внять его предупреждению: «Чтобы не впасть в противоречие, прошу разрешить мне объясниться» («Essai». Р. 521; «Опыт». С. 244).
В третьем параграфе «Опыта о происхождении языков» Руссо приводит «пример» в форме повествования-притчи, краткой аллегории. Это рассказ о том, откуда взялось столь отчетливо выступающее в начале «Второго рассуждения»[161]имя «человек»:
Дикарь [un homme sauvage] при встрече с другими людьми сперва устрашится. Его испуганному воображению эти люди представятся более рослыми и могучими, чем он сам; он назовет их гигантами. Из длительного опыта он узнает, что мнимые гиганты не превосходят его ни силой, ни ростом, и их телосложение уже не будет соответствовать той идее, которую он сначала связал со словом гигант Тогда он придумает другое название, общее и для него, и для этих существ, например, человек, а название гигант оставит для ложного образа, поразившего его воображение. [«Essai». Р. 506; «Опыт». С. 226-227.]
Такова общая и чисто лингвистическая версия того, что Гроришар называет «se nommer», и здесь в самом буквальном смысле слова описывается происхождение неравенства. Как неоднократно указывали комментаторы[162], отрывок, возможно, следует тексту Кондильяка, если не считать того, что Руссо говорит о взрослом, а не о ребенке. Но это различие немаловажно, ведь весь отрывок представляет собой сложную игру с качественными и количественными понятиями подобия, равенства и различия.
Первая реакция дикаря при встрече с другими людьми называется «страх». Сама собой такая реакция не разумеется; объективными данными она, вне всякого сомнения, не вызвана, ведь Руссо поясняет, что встретившиеся друг с другом люди предположительно равны и размерами, и силой. Но это и не страх одиночки, встретившегося со множеством других людей, поскольку дикари полностью лишены чувства числа или группы. И все же Руссо подчеркивает испуг, и Деррида, вне всякого сомнения, прав, заявляя, что вытекающее из этого испуга действие наименования — называния другого человека гигантом, тот процесс, который Руссо описывает как фигуральное использование языка,— переносит референциальное значение с внешнего, доступного наблюдения свойства на «внутреннее» чувство[163]. Скрытая словом «гигант» выдумка — это просто «мне страшно». Но какова причина страха, если не доступные наблюдению данные? Его может вызвать только чувство фундаментального недоверия, подозрение, что эта тварь, хотя она и непохожа на льва или медведя, может тем не менее, вопреки очевидности, повести себя, как они. Успокоительно знакомая и похожая внешность может оказаться западней. Страх—результат возможного несоответствия внешних свойств сущего внутренним. Можно показать, что, по мнению Руссо, страсти — будь то любовь, жалость, злоба или промежуточный случай между страстью и потребностью, страх—характеризуются таким несоответствием; они основаны не на знании о существовании различия, но на гипотетическом предположении, что оно может существовать, на возможности, которую бесполезно доказывать или опровергать при помощи эмпирических или аналитических средств[164]. Высказывание о недоверии не может быть истинным либо ложным, напротив, оно — вечная гипотеза по природе своей.