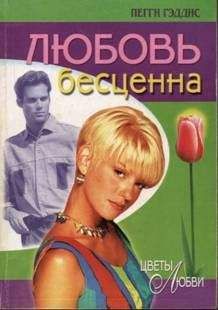Уильям Гэддис: искусство романа - Мур Стивен
Хоть Гиббс уже человек взрослый, он все так же наделяет возлюбленную атрибутами романтической героини из литературы и рискует поступиться искусством, впав в зависимость от женского одобрения. Издавна восхищаясь Эми Жубер на дистанции, он с трудом верит своей удаче, когда она соглашается на их роман. Он звонит Эйгену из ее квартиры и сообщает об успехе, утверждая, что «нашел чистый цветик у бездонных сдобных» — скороговорка, повторенная несколько раз после этого, и всегда с ошибками. Это цитата из когда-то популярной поэмы Редьярда Киплинга «Мандалай» (1890) (по совпадению написанная в том же хореическом октаметре, что и «Замок Локсли») — баллады, полной отвращения к Англии и ностальгической тоски по Дальнему Востоку:
Тот же самый тропический рай, что рассматривал, но отвергал главный герой Теннисона из высшего класса, здесь превозносит солдат-кокни из низшего. Оба викторианских персонажа тянутся не только к экзотическим любовным приключениям, но и к беззаконной свободе; сравните фразы Теннисона «А подавленная страсть та здесь не возымеет силы» и Киплинга «Десять заповедей — сказки, и кто жаждет — пьет до дна». То, что Гиббс цитировал Киплинга, свидетельствует как о характере его краткосрочных отношений с Эми, так и о невозможности их успеха. Эми — не из его мира, интеллектуального или социального, несмотря на работу с ним в одной школе. Она столь же экзотична, как девушка Киплинга, и так же далека от реальных потребностей и социальных обязательств Гиббса. Во время их недельной интрижки он все равно что в Мандалае — бросает преподавать, не видится с друзьями и, как обычно, забывает навестить дочь. Все это становится очевидным для него самого только после ее ухода.
Когда Эми уезжает в Швейцарию, она добивается от Гиббса обещания работать над книгой, но, просматривая свои заметки, тот натыкается на когда-то начатый рассказ с названием «Как читается Роза», изобилующий литературными аллюзиями. Короткий отрывок кончается так:
Упомяни ее имя — и ты увидишь, как они или их острые края ненадолго всплывают в глазах молодых людей, быстро отводящихся, как только они узнают, сколько раз она читала «Песнь Розе», в скольких разных руках, ломившихся в ее дверь с цветами, уносилась домой к книгам, чтобы уносили ее прочь. Елена в тургеневском «Накануне» брошена в два ночи, пока уже другие страницы лихорадочно листались, находя ее подающей чай друзьям, к часу обратно в постель ворочаться в одиночестве до рассвета уже в другой части города, где кто-то другой перестал тревожить ее тень в подземном мире Глюка от поворота ручки радио нетвердой рукой накануне вечером, остерегайтесь женщины, дующей на узлы [173], а затем тратит целый час, чтобы решить, что, быть может, ты правильно притворялась любящей, но к чему ж однако пинать меж ног? [174] Не книжная героиня, как они хотели, эта толпа, которая не поймет, насколько она человечнее, как старый Ауда после боя и убийства, с опечаленным сердцем…
Два предложения с половиной — а аллюзии на Уоллера, Тургенева, Глюка, Коран, Исаака Бикерстаффа и Т. Э. Лоуренса лишают Розу всякой реальности, превращая как раз в искусственную книжную героиню. У Гиббса та же привычка думать о женщинах в литературных терминах, «читать» в них качества, сводящие их к литературным стереотипам. Мы помним, как Гиббс сравнивал Стеллу с Фрейей и ведьмой из Malleus Maleficarum; Эми он связывает с киплинговской девушкой, но сначала — с женщиной из «Истерии» Элиота; Роду после встречи сравнивает с самыми разными персонажами, начиная с колдуньи художника Ханса Бальдунга и заканчивая «Бесс, дочерью помещика» из «Горца» (Highlander) Альфреда Нойеса. (Эйген перенимает аллюзии Гиббса на «Мандалай» и наделяет Роду «мясистым лицом и чумазыми руками» горничных Киплинга из Челси.) Однажды Гиббс даже прибегает к книгопечатной метафоре: «Энн, она вроде тебя [Эми], но в дешевом издании, двадцатый тираж в мягкой обложке, когда шрифт уже размазывается».
С одной стороны, такие замечания — всего лишь шутливая привычка Гиббса, ученое остроумие начитанного человека. Но с другой — они выдают тенденцию находить поводы для оправдания своего поведения в литературных произведениях — тенденция, более простительная для человека возраста и темперамента Баста. Швыряя Теннисона в лицо Басту, Стелла отказывается принимать участие «во всей этой нелепости, ее грудь сотрясается во внезапной буре вздохов, во всем этом испуганном романтическом кошмаре в который ты меня вверг»; стоит заменить Киплинга на Теннисона — и Эми обнаружила бы, что Гиббс занимается тем же самым, но только она слишком озабочена собственными проблемами. В стычке, как между Бастом и Стеллой, нет необходимости; вскоре Гиббс сам понимает, что ведет себя как солдат-кокни, тоскующий в бесполезных сожалениях, и избегает Эми по ее возвращении. Как и ее тезка в «Замке Локсли», она решает перестраховаться и выйти за скучного Дика Катлера — конец всех аллюзий, но Гиббс к этому моменту стряхивает эскапистскую фантазию и, таким образом, избегает романтической агонии, терзающей Баста.
Другой викторианец, которого часто цитирует Гиббс, — это Оскар Уайльд, чья шутливая лекция «Впечатления об Америке» (1883) занимает видное место в его «Агонии агапе». Лекция основана на путешествии Уайльда по Соединенным Штатам в 1882 году, во время которого он распространял доктрины, по словам Ричарда Эллманна, «представлявшие собой самую решительную и устойчивую атаку на материалистическую пошлость, что когда-либо видела Америка». Что еще более важно, «Уайльд представил теорию не только искусства, но и бытия, не только выдающейся личности, но и антитезы преуспеванию без учета качества жизни» [175]. То же самое раздражение из-за отсутствия «учета качества жизни» лежит в основе интересов Гиббса, и он разделяет мысль Уайльда, что Америка настроена враждебно по отношению к искусству. Гиббс цитирует его мнение, что Америка — «самая шумная страна из когда-либо существовавших», и его предупреждение: «Все искусство зависит от утонченной и деликатной чувствительности, и такая постоянная суматоха не может не быть в конечном счете разрушительной для музыкальных способностей…». «Джей Ар» — самый шумный роман из когда-либо существовавших, и попытки творческих персонажей создать хоть что-то посреди непрерывной суматохи лишь болезненно иллюстрируют наблюдение Уайльда. Гиббс берет эпиграф к «Агонии агапе» из объявления, которое Уайльд увидел над пианино в салоне в Лидвилле (штат Колорадо): «Пожалуйста, не стреляйте в пианиста. Он делает все, что может». Уайльд игриво называет это «единственным рациональным методом художественной критики, что я видел», но Гиббс знает, что живет в культуре «стрельбы в пианистов», которая уничтожает своих художников, поскольку в искусстве «„все, что могу“ — это всегда мало». Это познает и сам Уайльд, когда его уничтожает собственная страна. В то время как Киплинг подпитывает романтические порывы Гиббса, Уайльд оправдывает его культурные и художественные страхи.
У Баста есть Теннисон, у Гиббса — Киплинг и Уайльд, а у Томаса Эйгена — Джозеф Конрад. Гэддис пользуется «Сердцем тьмы» так же, как Конрад пользовался «Энеидой» и «Адом», прокладывает такую же ироническую дистанцию между Эйгеном и Марлоу, как Конрад — между Марлоу и Энеем или Данте. Хотя в «Джей Ар» только два эпизода с аллюзиями на повесть Конрада 1899 года, они проливают свет как на мотивы Эйгена во второй половине романа, так и на его сложные отношения с собственным Куртцем — самоубийцей Шраммом.