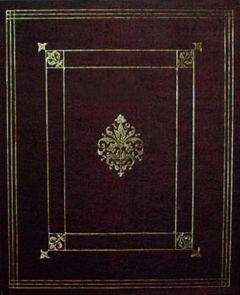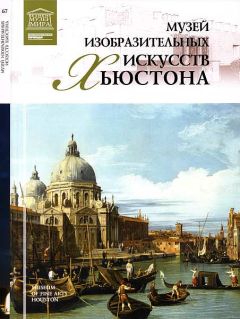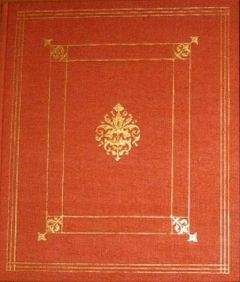Марина Бессонова - Избранные труды (сборник)
В таком случае и московский натюрморт можно считать «скрытым» портретом Лаваля. Каковы же содержание портрета и причины, побудившие художника написать его на расстоянии, в Арле или в Париже, в, казалось бы, абсолютно неподходящий период перелома творческих установок и сложных перипетий с Ван Гогом?
Быть может, объяснение следует искать в сложных отношениях между Гогеном, Лавалем и Мадлен Бернар, сестрой художника Эмиля Бернара, приехавшей летом того же 1888 года к брату в Понт-Авен.
И Гоген, и Лаваль увлеклись семнадцатилетней Мадлен Бернар, которая вскоре стала женой Лаваля. Обручение и свадьба состоялись как раз в конце 1888 – в начале 1889 года во время пребывания Гогена в Арле и в Париже. О непростых чувствах Гогена к Мадлен Бернар свидетельствуют два произведения. Первое – ее портрет, написанный с натуры в Понт-Авене, на котором у девушки чуть раскосые глаза, «звериные» уши и пронзительный «лисий» взгляд, как на лице с нашего натюрморта (Художественный музей, Гренобль; Wildenstein, № 240).
Второе произведение поражает своей необычностью. Это керамическая ваза с лицом самого Гогена (Музей декоративного искусства, Копенгаген; Gray Ch. Sculpture and Ceramics of Paul Gauguin. New York, 1980. № 65, Bodelsen M. Gauguin’s Ceramics: A Study in the Development of His Art. London, 1964. № 148). Она исполнена сразу после бегства из Арля и дышит кошмаром страшной вангоговской драмы. Ручка вазы представляет собой разрезанное пополам ухо, а по раскроенному черепу (в данном случае черепу Гогена) стекают струи красной поливы; рельефное лицо вазы оказывается сплошь залитым поливой, как кровью. В этом году Гоген писал Э. Бернару из Ле Пульдю: «Несмотря на все мои усилия стать нечувствительным, я не таков, натура моя берет свое. Таков Гоген-горшечник – с рукой в печи, заглушающий готовый вырваться крик»[103]. А из письма, отправленного Бернару еще через месяц, мы узнаем, что этот заглушенный в керамической печи крик был преподнесен Гогеном в качестве жестокого свадебного подарка Мадлен Бернар, теперь уже Мадлен Лаваль. «Я улыбаюсь, представив Вашу сестру перед моим горшком. Между нами говоря, я отчасти нарочно решил испытать силу ее восхищения такими вещами, а затем мне хотелось подарить ей одно из лучших моих произведений, хотя и не очень удавшееся (в смысле обжига)»[104]. Здесь Гоген умолчал о том, что он специально добивался дефектов обжига, позволивших сохранить неравномерные затеки красной поливы. И далее в том же письме: «В каждом материале я ищу характерности. А характер серой керамики – весь в ощущении сильного пламени, и фигура, прокалившаяся в таком аду, по-моему, выражает такой характер с достаточной силой. Подобно художнику, увиденному Данте при его посещении ада, бедняга весь сжался, чтобы перенести муку»[105]. Тут совершенно ясен саркастический подтекст Гогена. Наконец, после просьб сфотографировать для него вазу, это письмо завершается язвительным и горьким постскриптумом: «Передайте Мадлен мои сожаления по поводу грубого вида ее горшка»[106]. Таков финал отношений Гогена и Мадлен, воплощенный в скульптуре.
Что же касается натюрморта Фрукты, то начало работы над ним, очевидно, совпало по времени с письмами Гогена к Мадлен из Арля, когда он предвидел ее скорую помолвку. Настроенный моралистически и мрачно, он предостерегал Мадлен, нравоучительно объясняя ей, как пагубна потеря целомудрия, что вызвало сильное неудовольствие семьи Бернар. Следует заметить, что в данном случае страхи и тревоги Гогена были не напрасны. В 1890 году, вскоре после женитьбы, уже больной туберкулезом Лаваль уехал с женой в Каир, где скончался через четыре года, а еще через год от той же болезни умерла Мадлен.
Таким образом, московский натюрморт Фрукты можно считать зашифрованным посланием Гогена к Лавалю и Мадлен, в котором звучат предостережение и тоска.
Полет над Эйфелевой башней
Марк Шагал ушел последним из славной плеяды «старых» мастеров ХХ века. Он прожил столь долгую жизнь, что казалось, сам будет открывать выставку, посвященную своему столетию. Только с феноменом Пикассо сопоставим этот мощный поток творчества, на протяжении восьмидесяти лет выплескивавший из своих глубин картины, гравюры, сценографические макеты и, наконец, на последнем этапе жизни – витражи и мозаики. Он обрел себя как живописец в пору смелых экспериментов кубизма, то есть вместе с рождением новой изобразительной культуры ХХ века, а ушел ни на кого не похожим мастером, колдуном, ворожащим над краской и смальтой, в наши дни, наименее благоприятные для глубокомысленных медитаций перед мольбертом.
Подобно Матиссу и Фаворскому, он оставил миру свою Книгу – образные повествования в гравюре, шагаловский вариант «Мертвых душ» и Библии. Вместе с Пикассо, Леже, Матиссом, ле Корбюзье и Мельниковым он посвятил вторую половину творческой жизни созданию Храмов нашей эпохи и преображению древних готических соборов. Сияющие в стальных оправах, рассеянные по всей планете витражи Шагала останутся такими же вечными памятниками нашей культуры в глазах потомков, как капелла в Вансе, Храм Мира в Валлорисе, капелла в Роншане, здание в Бьо или дом-башня в старинном Кривоарбатском переулке в Москве.
Подобно Татлину, Маяковскому и Блоку, он оставил свой, шагаловский образ глубочайшего потрясения нашей эпохи – Великой Революции в России: перешагивающих через земной шар и парящих над ним людей в одеждах ремесленников.
Наконец, он единственный из титанов ХХ века отважился передать миру свое «Библейское послание» – огромный цикл полотен, составивших отдельный музей, – и тем самым протянуть руку безымянным мастерам Древней Руси и Западной Европы, перестав на время быть Марком Шагалом и воплотившись в Мастера из Витебска.
О нем уже написаны обстоятельные труды и создаются новые, и эта выставка – первая большая ретроспектива после смерти художника. Закономерно, что она открывается на его родине, фигурирующей в облике старого Витебска как герб, девиз-картинка на любом из его поздних полотен.
Марк Шагал. Малая гостиная. 1908
Собрание наследников художника
Уже в раннем сохранившемся этюде маслом – портрете старушки с корзинкой для вязанья, по-видимому, начатом еще в Витебске под руководством ученика Репина Иегуди Пэна, – чувствуется рука прирожденного живописца и рисовальщика. Его невольно хочется сопоставить со стариками и старухами подростка Пикассо. Их обоих в юности интересовало все физиономически характерное и «жалостливое», но в отличие от прошедшего суровую академическую муштру испанского мальчика витебский ученик гораздо раскованнее. Выразительность его пятна и извивающихся черточек-закорючек, которыми размашисто покрыт этюд, созвучна пластическому всеевропейскому видению того времени. Родившийся на несколько лет позже Пикассо, Шагал догоняет его с палитрой в руках семимильными шагами. Даже ничего не зная о времени создания этюда, ясно, что он написан после Ван Гога и Тулуз-Лотрека.
Небольшой интерьер Малая гостиная, написанный через год, уже после занятий с Рерихом, Добужинским и Бакстом, поражает экспрессивным рисунком покачнувшейся, как от урагана, мебели и интенсивным, чисто фовистским цветом. Малая гостиная Шагала вполне могла бы висеть рядом с Матиссом, Дереном и Браком в фовистском зале Осеннего Салона в Париже. Откуда все это? Разумеется, столь стремительное овладение европейской живописной культурой невозможно приписать одной лишь одаренности молодого художника. И здесь лишний раз добрым словом хочется вспомнить новую систему художественного образования в России перед Первой мировой войной. Как в Москве, так и в Петербурге свободную от академического догматизма, открыто обращенную ко всему новому и прогрессивному в Европе.
Вероятно, поэтому сразу после приезда в Париж, оказавшись в орбите зрелого кубизма Пикассо и Брака, Шагал принял этот сложнейший пластический язык – следующий шаг после фовизма – как свою родную, естественную стихию. Свободно войти в кубизм помог приобретенный в Петербурге профессионализм, но обрести свой независимый лик внутри чужой, отлаженной, уже упивающейся технической виртуозностью системы было дано не каждому. А первые полотна Шагала, исполненные в Париже, – Я и моя деревня, Россия. Ослам и другим – поразили воображение поэтов кубизма Аполлинера и Сандрара (а значит, и самого его творца – Пикассо). Мощный голос Шагала услышали не только в Париже, но и в Берлине, пригласив его участвовать в выставке молодых экспрессионистов. Так, еще до всероссийской известности, на заре творчества Шагал получил всеевропейское признание.
Марк Шагал. Рождение ребенка. 1911