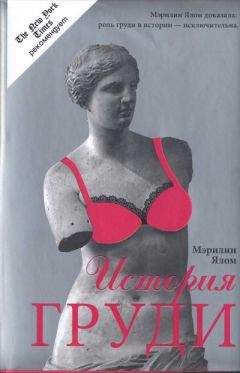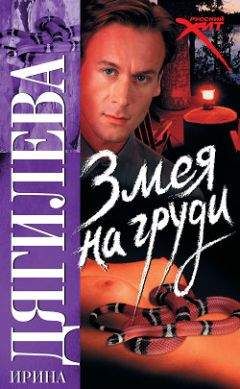Роберт Уилсон - Иштар Восходящая
Надпись же «Пентагон сосет» в таком случае можно расценивать как попытку восставших обратиться к собственной исконной животной природе.
Глава 7. Чистосердечное признание
Я помню Мэрилин Монро на экране, напоминающую большую куклу, которая шепчет, поджимает губки и кажется такой доступной, такой уязвимой. Смотря на нее, я чувствую злость, даже унижение, сама не понимая, отчего. В конце концов, там ведь была и Джейн Рассел… да, это не просто та уязвимость, присущая всем женщинам с большой грудью.
Глория Стейнем[37]Эта уязвимость женщин с большой грудью, как мы уже попытались показать, является результатом странной ненависти отцов церкви к женщине и материнскому архетипу вообще. В обществах, лишенных такой паранойи, грудь не провоцирует ни малейших проблем, какого бы размера она ни была. Например, у жителей островов Тробриан, о которых писал в своей известной работе Половая жизнь дикарей антрополог Бронислав Малиновски, женщины все время ходят с обнаженными грудями, не вызывая никаких негативных мужских реакций. Возможно, потому, что у тробрианцев отсутствуют табу на младенческую и детскую сексуальность, отсутствует понятие «подросткового возраста», нет также запрета на половые связи холостяков или незамужних, и они одними из первых эффективно превратили факт супружеской измены в повод для развода (Выглядело все это весьма занятно: мужчина, который хотел уйти, мог спокойно уйти и жить со своими братьями. Женщина же, желавшая развода, выносила из дома обувь своего мужа и после этого он туда уже не мог войти. Если обе стороны хотели возобновить отношения после такой размолвки, они должны были принести друг другу дары и подходящие аргументы, чтобы смягчить конфликт).
Понятно, что соски каждой проходящей девушки будоражили фантазию тробрианского сильного пола, однако они не испытывали постоянных разочарований вроде современных мужчин и не набрасывались с криками восторга на каждую. Информанты Малиновски так не смогли припомнить ни одного случая изнасилования или других сексуальных преступлений, а ведь эти люди, как и другие дописьменные народы, передавали историю устно и могли помнить яркие события в течение многих поколений. Они припомнили несколько случаев гомосексуальных отношений, показавшихся им чрезвычайно забавными, и одно-два самоубийства из ревности, но даже при этом обошлось безо всякого принуждения женщины силой (В Америке, для справки, изнасилование происходит каждые три минуты). Возможно, получив хорошее христианское образование, эти отсталые люди наконец встревожились бы видом обнаженных грудей, и рано или поздно там бы появились местные насильники и убийцы, и это ведь будет прогрессом, не так ли? В конце концов, на островах могло бы даже возникнуть самостоятельное движение феминисток, чтобы обязательно списать любое насилие на «сексизм» и призвать к дальнейшим репрессиям против бедного Эроса как лучшему решению проблемы.
Найдутся, конечно, и такие, кто скажут, что культурно оправданная жестокость по отношению к женщинам с большой грудью на наших улицах никак не связана с теми демонами, что провоцируют убийц и насильников. Они даже скажут, что обычный феминистский тон вообще напоминает фразу героини какой-нибудь викторианской мелодрамы, стенающей с комическим пафосом: «О, сэр, как смеете вы таким извращенным путем тревожить цветок белой женственности!». Кому-то понравится такой циничный взгляд, однако те же самые мужчины (говоря по правде) тут же разозлятся, когда так отнесутся к женщине, которую они счастливы сопровождать, и набросятся на обидчиков с криками «Вам, пидорам, больше заняться нечем?» или более изящными выражениями. А если они не выкажут такой защитной реакции, то весь вечер будут укорять себя за трусость, разве не так, братья мои?
Но несмотря на такие уличные атавизмы, распространенные больше в крупных городах, замечу следующее: в 18 веке в Лондоне были хулиганы, известные как «мохоки»: они забавлялись, швыряя прохожим в лицо перцем — общей тенденцией последней декады века стало чистосердечное признание. Теперь и среди богатых радикалов и нечесаных хипстеров зрелище женщины, публично кормящей грудью ребенка, стало почти обыденным, как у крестьян: викторианские табу в среднем классе уже давно не работают, топлесс-бары хотя и преследовались, но все же процветают. Соски, которые в Гавайях казались чудом, теперь можно увидеть чуть ли не в каждом фильме. Мало того: старомодный цирк, который больше забавлял зрителей, чем самих участников, теперь к нам гораздо ближе, чем какая-нибудь Тихуана или Гавана. Он в паре кварталов отсюда, в ночном клубе.
Посему не стало неожиданностью, что маммалофобия пала, как и остальные анальные принципы и запреты. Единственным сообществом, которое не сумело организоваться и жестко отстоять свои права, стали карлики, хотя, вероятно, Фронт Освобождения Карликов уже создается, пока я пишу эти строки («Всю Власть Мелким!»). За последнее время ни один президент не смог появиться на публике и не убедиться, что любим он далеко не всеми; в популярном телешоу All in the Family геи уже вызывают сочувствие, однако не выглядят при этом жалкими. Вам не удастся пройти через курилки в офисах, чтобы не услышать очередную сплетню о парне, который балуется косяками в своем кабинете. Трудно вообще не поверить в то, что Шалтай-Болтай свалился со стены, и вся королевская конница и вся королевская рать так и не смогли его в итоге поднять.
Не забудем и про нашу очаровательную Элеонору Аквитанскую и трубадуров, которые даже после Альбигойских Крестовых походов всё-таки смогли повернуть ситуацию в более-менее нормальное русло. Это был Ренессанс, когда венецианки публично щеголяют обнаженной грудью (именно тогда начали очерчивать алым соски, выделяя их контуры), а Микеланджело сбрасывает с лесов священника, уж слишком ревностно разглядывающего обнаженные фигуры на его потолочной росписи в Сикстинской Капелле; когда наука вырвалась из-под узды церкви и начала заниматься неизвестными доселе областями, а каждый художник считал своим долгом изобразить прекрасную Венеру в чем мать родила (всегда почему-то между образами Девы Марии в городских соборах); когда гуманисты иронически наблюдали за перепалками католиков и протестантов, уверенно заявляя, что рацио восторжествует, когда фанатики окончательно перебьют друг друга. Никто не мог предположить, что маятник в очередной раз качнется в другую сторону. В какой же точке мы находимся сейчас? Социологи могут ответить, что топлесс-бары все равно перевесят уже ушедшие в прошлое костры из книг, хотя обязательный анализ мочи снова становится популярным.
Лет сто назад Чарльз Дарвин с удивительным прозрением написал:
В зрелые годы, когда мы видим что-нибудь, напоминающее формой женскую грудь … все наше существо наполняется неизъяснимым блаженством, и если объект этот небольшой, мы не можем сдержать желания прильнуть к нему губами, как делали это во младенчестве у грудей наших матерей.
Вероятно, это и послужило первым толчком к тому, чтобы наши далекие предки впервые попробовали апельсины, яблоки, персики, сливы, грейпфруты и даже арбузы. Хотя, наслаждаясь этими фруктами, мы в какой-то степени осознаем, что искали чего-то совсем другого. Руководствуясь, видимо, такими же ассоциациями, римляне активно употребляли во время оргий виноград, вино и прочие оральные удовольствия. Та странная нежность, что сопровождает оральную ментальность, хоть и подвергалась жестоким гонениям (как показывает пример христианства), в принципе не могла быть полностью истреблена.
Ужасы первой половины 20 века, последовавшие непосредственно за оптимистичным настроем поздней викторианской эпохи, породили почти всеобщее уныние и то, что Перлс, Хефферлайн и Гудман в Гештальт-терапии назвали «затянувшимся чрезвычайным положением»- возрастающим до настоящей катастрофы, когда политики начинают грозно потрясать своими водородными бомбами и прочими недетскими игрушками. Большинство из нас в той или иной мере согласно со словами мула Бенджамина, персонажа Скотного Двора Оруэлла: «Дела идут так, как им и положено идти, то есть плохо». Почти каждый, наблюдая современную сексуальную революцию и достаточно погружаясь в эту мрачную атмосферу уныния, предсказывает скорое возвращение прежних репрессий. Маятник качнется в обратную сторону.
Но все же забавно и даже воодушевляющее звучит, если мы вспомним, что метафора маятника — это только один способ предсказания будущего, есть и множество других. Фантаст Роберт Хайнлайн, семантик Альфред Коржибски и Ричард Бакминстер Фуллер, математик и конструктор, все они убеждают нас, что наиболее подходящей моделью для оценки технологических тенденций является непрерывно повышающаяся экспоненциальная кривая, которая в итоге достигает своей высшей точки и устремляется в вечность. Именно по причинам, высказанным этими тремя авторами, стоит думать, что социальный прогресс обретет наконец устойчивость и верное направление, если, конечно, с его пути уберут кое-какие заграждения. Первым, от чего надо избавиться, должно стать пессимистическое убеждение, что это невозможно и что мы должны отказаться от всего, что завоевали, и вновь вернуться в нижнюю точку маятника.