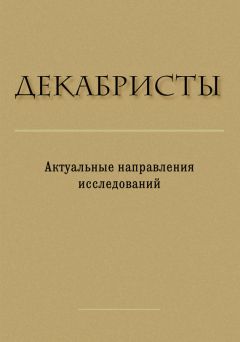Арон Гуревич - Индивид и социум на средневековом Западе
Сословное сознание и личность
Один из виднейших современных медиевистов Отто Герхард Эксле, давно разрабатывающий проблематику «исторической науки о культуре» (historische Kulturwissenschaft), подчеркивает существенность нового понимания социальной истории[98]. Если в центре внимания социальных историков обычно находились стабильные, массовидные и малоподвижные образования – сословия, классы и институты, – то Эксле обращает особое внимание на необходимость скрупулезного анализа всякого рода социальных групп. Оба указанных метода изучения общества принципиально различны и исходят из весьма неодинаковых эпистемологических оснований.
В самом деле, в то время как «класс» и «сословие» суть обобщенные понятия, налагаемые современной мыслью на общество прошлого, – такие коллективы, как семья и род, домохозяйство, вассальный союз, мирок сеньориального господства, монастырская братия, ремесленные и купеческие гильдии, городские и сельские коммуны, союзы побратимов, союзы соприсяжничества Каролингской эпохи, городские братства (fraternitates) и т. п., представляют собой группы, реальность существования которых не вызывает сомнения. При их изучении встают такие вопросы, как побудительные причины объединения индивидов в подобные коллективы, силы их внутреннего сцепления (материальные, нравственные, религиозные), способы их функционирования, длительность их существования, взаимодействие между группами, механизмы постепенного изменения природы коллективов и, главное, мера воздействия групповой принадлежности на структуру человеческой личности. Подобный способ анализа с неизбежностью предполагает изучение ментальных структур и картин мира, присущих членам группы.
Традиционное изучение классов и сословий может оставаться на уровне социологического рассмотрения, исследование же реальных социальных групп неизбежно вводит историка в мир культуры, трактуемой в антропологическом ключе. Если обсуждение модели общества, согласно которой оно делится на oratores, bellatores и laboratores, не предполагает интереса к личности человека, поглощенного подобным абстрактным социумом (а по сути дела даже исключает его), то обращение к изучению многоразличных групп подводит к постановке проблемы личности. Соотношение индивида, группы и общества в целом Эксле рассматривает как центральный вопрос наук о культуре[99].
Эксле задается вопросом, не было ли многообразие групп отличительной особенностью средневекового Запада. Он указывает в этой связи на то, что в мире восточного христианства не сложилось ни городов-коммун, ни монашеских и рыцарских орденов и не приобрели существенного значения объединения купцов и ремесленников. Причина этого различия между Западом и Византией заключалась предположительно в том, что в последней автократическая власть подавила многие формы спонтанной человеческой самоорганизации, в то время как в Западной Европе после падения Римской империи централизованная власть отсутствовала, и население волей-неволей принуждено было изыскивать те или иные формы самоорганизации. Иными словами, общество в Византии было в значительной мере задушено государством или, во всяком случае, поставлено в полнейшую от него зависимость. На Западе же общество на всех этапах развития пребывало в сложных и изменявшихся отношениях с государственной властью, и последней приходилось серьезно считаться с социальными группами, отчасти используя их в собственных интересах, но отнюдь не покушаясь на их существование.
Итак, по мысли Эксле, группа есть не что иное, как союз индивидов, и, следовательно, она находит свое основание в человеческой личности. Исследователь решительно выступает против все еще широко распространенного мнения о том, что личность на Западе возникает во второй половине Средневековья или даже после него. Совершенно очевидно, пишет он, что средневековая личность – иная, нежели новоевропейская. Задача состоит в том, чтобы возможно глубже проникнуть в ее своеобразие.
Как нетрудно убедиться, Эксле намечает программу изучения целого ряда сложнейших проблем. Исследовательская практика последних лет побуждает медиевистов несколько сместить угол зрения и, не ограничиваясь анализом сословных структур средневекового общества, более углубленно и предметно рассматривать те малые группы, в которые реально был включен индивид, ибо они-то прежде всего его формировали. В нижеследующих очерках будут по необходимости применены оба подхода – сословный и микросоциологический.
Среди аргументов, выдвигаемых историками, которые отказываются считать средневекового человека личностью, на первом месте фигурирует мысль о том, что он был всецело поглощен группой, сословием, социальным или профессиональным разрядом. Эта поглощенность якобы не оставляла ему возможности для нестандартных личностных проявлений. В пользу этой аргументации, как может показаться, свидетельствует, в частности, учение о трехфункциональном членении общества: последнее состоит из массовидных и внутренне единообразных ordines – «молящихся», «сражающихся» и «трудящихся». Личность растворяется в сословии, и ее индивидуальные качества, главным образом, определяются ее социальной принадлежностью. В этих условиях индивид осознавал себя, согласно указанной точке зрения, преимущественно или даже исключительно в качестве компонента социума и строил все свое поведение в полном соответствии с правилами, требованиями и императивами коллектива.
В первом приближении этот взгляд кажется обоснованным. Трудно преувеличить значимость сословно-корпоративной этики и диктуемого ею поведенческого этикета. Хорошо известно, что мир средневекового человека был высоко семиотичен и представлял собой «лес символов». В самом деле, его поведение – религиозное, социальное, бытовое – определялось и регулировалось многообразной и всеохватной символикой и соответствующими ей ритуалами. Церковная литургия, свадебные обряды, праздники, общение с другими лицами, судебные процедуры, равно как и многие стороны хозяйственной деятельности и быта, оформлялись неизменными, повторяющимися в соответствующих ситуациях жестами и действиями, которые, как кажется, не оставляли простора для проявления личной инициативы. Нестандартные поступки вызывали подозрение и осуждались, а мысли и высказывания, не соответствовавшие привычным и общепринятым, могли даже повлечь за собой обвинение в ереси.
Примером того, в какой мере индивидуальное поведение было подчинено требованию соблюдать раз и навсегда установленные нормы, может служить ордалия. Для того чтобы очиститься от обвинения, подозреваемый должен был пройти испытание кипятком, раскаленным железом, погружением в воду или судебным поединком, так что исход дела ни в коей мере не зависел от подлинных обстоятельств проступка. Этот «Божий суд», исходивший из убеждения в том, что Творец постоянно вмешивается в повседневные человеческие дела, как бы исключал мысль о личности участника судебного испытания.
Все это общеизвестно и едва ли оспоримо. Индивиды, которые вели себя нестандартно, могли быть заподозрены в том, что ими завладела нечистая сила, и этих «одержимых» следовало подвергнуть очистительным процедурам экзорцизма. Требование подчиняться раз и навсегда установленным правилам и обычаям, опасения, которые внушало всякого рода новаторство, как нельзя лучше выражали сущность традиционалистского общества.
Но значило ли все это, что люди Средневековья неизменно действовали и, более того, мыслили и чувствовали в соответствии с предустановленным сценарием коллективного поведения? Как прекрасно известно историкам, это общество находилось в процессе постоянных изменений, так что ни хозяйство, ни политика, ни самая религиозность не оставались неподвижными. Традиции статики отнюдь не исключали действия сил динамики. Это основанное на вековечных устоях общество пребывало в постоянном движении.
Разве не показательно то, что с течением времени безусловность ордалий была поставлена под сомнение? В XIII веке утверждаются новые принципы судебно-следственных процедур. Инквизиционный процесс предполагал рассмотрение мотивов и обстоятельств преступления, и в центре внимания оказывалось требование признания обвиняемого. (В реальной практике, разумеется, эти признания очень часто были вынужденными и делались под пыткой или ввиду угрозы ее.)
Уже при Иннокентии III, одновременно с созданием Святой инквизиции, церковь предписала, что каждый верующий обязан ежегодно являться на исповедь. Исповедь не была новшеством для XIII века, новой явилась ее регулярность и строгая обязательность. Это предполагало в принципе анализ христианином своего нравственного поведения и четкое разграничение своих поступков на греховные и праведные. Волей или неволей прихожанин был поставлен перед необходимостью самоанализа.