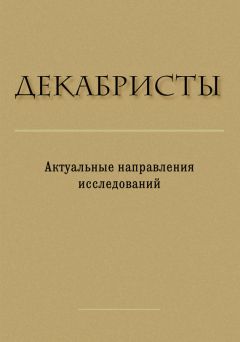Арон Гуревич - Индивид и социум на средневековом Западе
То, что Сверрир был пришельцем извне, человеком, которого, по его собственному выражению, Бог «прислал с далекого островка», и не принадлежал ни по происхождению, ни по воспитанию к правящему слою Норвегии, несомненно, делало его более свободным в отношении традиции, гораздо сильнее сковывавшей конунга Магнуса и ярла Эрлинга. Этот несостоявшийся священник оказался более способным военачальником, политиком и организатором, чем старые аристократы. Выдвинуться в Норвегии он мог, рассчитывая, собственно, только на свои личные таланты и удачу и на помощь отчаянных молодцов-биркебейнеров. И он победил. Победа досталась ему нелегко. На протяжении четверти века Сверрир почти без передышки должен был воевать против знати, церкви и большей части населения страны.
Но для утверждения своего Я и достижения поставленной им цели Сверрир сделал и нечто иное и беспрецедентное – созданная по его указаниям сага не только во многом определила взгляд ближайших поколений на него самого и на его дело, но и оказала решающее воздействие на историографию Нового времени, посвященную трактовке норвежского Средневековья. Тем не менее «Сага о Сверрире» не была всецело продиктована, как утверждал Хальвдан Кут[95], «духом партийной борьбы» (подобно написанной при нем «Речи против епископов», в которой обосновываются притязания Сверрира на престол). Это образчик «королевских саг», жанра, который стал складываться со времени Сверрира и получил завершение уже после него, в «Круге Земном».
Несомненно, аутсайдеру было легче обнаружить себя как индивидуальности и стать в ряде отношений ни на кого не похожей личностью – такой личностью, которая, при всех ее особенностях, искала возможности укрыться в тени святого конунга Олава. Сверрир – предельный случай индивидуализации реального исторического лица, известный нам из древнескандинавских памятников.
Высказанная выше мысль о том, что скандинавское общество в период Раннего Средневековья оставляло индивиду несколько большие возможности для самовыражения, нежели сословно-иерархическое общество периода развитого феодализма, находит подтверждение в недавних исследованиях С. Багге. Сопоставляя «Сагу о Сверрире» с позднейшей «Сагой о Хаконе Хаконарсоне», внуке Сверрира (она была написана в 60-е годы XIII века), Багге демонстрирует немаловажные различия в изображении главных героев обеих саг. Сверрир, как явствует из его саги, постоянно обнаруживает личную инициативу, его поведение нестандартно и в значительной мере обусловлено характером его индивидуальности. Между тем Хакон выступает в своей саге прежде всего как воплощение функций правителя, и в этом отношении его облик напоминает облик средневекового «rex Justus»: индивидуальные черты характера оттеснены на задний план, автор саги заботится прежде всего о том, чтобы продемонстрировать соответствие короля той роли, которую он призван играть в сложившихся социально-политических условиях. «Архаический индивидуализм» конунга размывается под напором новых идеологических установок и политических ценностей[96].
* * *Рассмотрение разных категорий древнескандинавских памятников, на первый взгляд, позволяет увидеть ряд последовательных этапов развития. Поглощенность индивида коллективом и его подчинение ритуалу (герои «Эдды») сменяются большей его выделенностью и обособленностью (герои саг и скальды). Но не будем спешить строить картину линейной эволюции, тем более что все жанры древнескандинавской словесности сосуществовали в едином культурном пространстве Северной Европы. Скорее, перед нами – напряженная диалектика двух начал, причудливо сочетавшихся в личности германца и скандинава, – группового («родового») начала с началом индивидуальным. Следование ценностям рода, семьи («своих») вовсе не исключало развития личной инициативы и высокого самосознания индивида. Ему присуще обостренное чувство чести, сплошь и рядом доходящее до откровенного эгоизма и безудержного самоутверждения.
Могут возразить, что необузданное самоутверждение северного «варвара», с легкостью обнажавшего оружие и готового пролить кровь человека, который затронул его доброе имя, сродни поведению других «примитивных» народов и что повышенная чувствительность к обидам и оскорблениям сама по себе вовсе не симптом индивидуалистического сознания. Допустим. Но в данном случае мы имеем дело не просто с бытовым поведением людей, активно и почти автоматически противящихся посягательствам на личное достоинство. Этими центральными ценностями их мировосприятия проникнуты высшие достижения культуры. Напряженная борьба за отстаивание собственного Я – сюжет саги и скальдической поэзии. Эти чувства поэтизированы и эстетизированы. Именно на почве развитой индивидуалистической этики возникли выдающиеся произведения древнесеверной поэзии и прозы.
Самое удивительное то, что высокие культурные ценности были созданы в обществе, которое, несомненно, отставало от более материально и социально «продвинутых» обществ континента средневековой Европы. То было общество без городских центров, каковые мы привычно и не без оснований принимаем за главные очаги процесса цивилизации, чрезвычайно слабо стратифицированное общество скотоводов, земледельцев и рыбаков, которые жили на отдаленной периферии Европы в условиях относительной изоляции и природной и материальной бедности. Демаркационная линия между litterati и illitterati, с достаточной ясностью вырисовывающаяся в истории христианского Запада, кажется здесь стертой и весьма нечеткой. Хранителями культурной традиции выступают люди, принадлежащие к числу самостоятельных сельских хозяев, о жизни которых повествуют сочиненные ими саги. И точно так же скальд, в своих песнях прославляющий конунга и вместе с тем собственное искусство, является не профессиональным поэтом, но таким же бондом, как и его соседи. Мало этого. Высшие достижения древнескандинавской культуры принадлежат времени, когда жители Севера еще не располагали письменностью. Тем более парадоксальным кажется тот подъем культуры, который пережила Скандинавия в эпоху викингов и ранней христианизации.
Скептики могут выдвинуть и иное возражение: германо-скандинавский вариант культурного развития имеет якобы сугубо локальное значение и представляется тупиковым в общеисторической перспективе дальнейших судеб Европы; не этот северный вариант, но средиземноморский, непосредственно связанный с античным наследием, был чреват последствиями, наиболее существенными при переходе от Средневековья к раннему Новому времени[97]. Но так обстоит дело при условии, если по-прежнему исходить из идеи о решающей роли одного только греколатинского наследия. Ни в коей мере не оспаривая колоссальной и вполне очевидной значимости этого последнего, я все же буду настаивать на том, что привычное сосредоточенье исключительно на античных истоках европейской культуры неправомерно обедняет взгляд историков на действительное положение дел.
Здесь я отважусь на следующую гипотезу. Важнейшей вехой, отделяющей Средневековье от Нового времени, явилась Реформация. Возникновение протестантизма со времен Макса Вебера связывают с утверждением индивидуалистических ценностей. Но взглянем на культурно-религиозную карту Западной Европы XVI века, и мы увидим, что в общем и целом это мощное движение, глубоко затронувшее всю толщу общества, привело к воспроизведению на новой основе старого разделения латинского Юга и германского Севера: Реформация победила и утвердилась в германских странах, тогда как католицизм сумел отстоять свои позиции среди народов романизованного Средиземноморья. Не побуждает ли констатация этого глобального исторического факта предположить, что ментальная почва Севера была несколько более подготовлена к воспроизведению идей, установок сознания и ценностей, которые издавна были присущи культурному сознанию индивидов этого региона?
Это – не более чем гипотеза, нуждающаяся в дальнейшем обсуждении, но разве базовая структура личности, с какой встречается историк при изучении скандинавских памятников Раннего Средневековья, не оказалась исторически устойчивой и в более близкие к нам столетия? Несомненно одно: ценность древнескандинавских источников заключается, в частности, в том, что их изучение открывает перед нами типологически более раннюю стадию истории личности по сравнению с той, которую мы застаем на континенте Европы. Дохристианский языческий этос предоставлял германцу несколько большие возможности для обнаружения собственного Я, нежели учение церкви, требовавшей смирения и подавления гордыни.
Если согласиться с развиваемым в этой главе тезисом об архаическом индивидуализме, то мы увидим значительную произвольность и необоснованность учения о «рождении» личности на Западе в период высокого и позднего Средневековья и о том, что этот процесс протекал якобы последовательно эволюционно, из века в век, набирая силу по мере приближения к Ренессансу. Отказ от односторонней концентрации внимания на памятниках одной лишь латинской словесности и включение в поле зрения Европы в целом по необходимости требует преодоления того барьера, который, к сожалению, все еще отделяет скандинавистику от медиевистики в ее традиционном понимании.