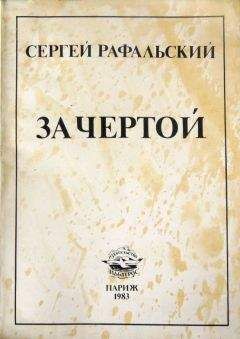Александр Михайлов - Избранное : Феноменология австрийской культуры
Для традиции и вообще поэт есть alter deus, второй бог[2]. Тогда и создаваемое первым богом особо, подчеркнуто, уподобляется художественной деятельности, и все создаваемое им имеет характер произведения искусства. Благодаря этому первоначальное, создающее самоё реальное, творчество не отделяется резкой гранью от того поэтического творчества, которое мы знаем в самой жизни.
Итак, есть такой смысл слов «искусство», «истина» и «поэтическое», когда они значат одно и то же, и тогда название настоящей работы есть лишь тавтология. Однако именно и замечательно это конечное схождение смысла слов в изначальной точке, — мы яснее схватываем суть этой изначальности, когда осознаем совпадение столь привычных и простых слов. То, как и в каких отношениях смысл этих слов и понятий расходится в конкретную эпоху художественного развития, — как именно истинность отделяется от создаваемого и от процесса творчества и т. д., как уже не совпадают поэтическое творчество и творчество вообще, и возможно ли вообще их уподобление друг другу, заключает ли в себе поэзия какую-либо из-начальность и первозданность, все это показывает нам характер эпохи в самом принципиальном ее содержании.
Тема статьи, как она сформулирована, требовала некоторых предварительных объяснений, чтобы не возникало впечатления простой красивости и вычурности ее заглавия. Речь идет об искусстве так называемого бидермайера[3] и, точнее, о конце этого периода, о кризисе, когда сущность этой художественной эпохи, — так это получилось на деле, вышла наружу в ярких и острых образах, нередко полных скрытого гротеска. Кризис искусства эпохи бидермайера, кризис бидермайера, заключался в том, что поднялись на поверхность и обнаружились кризисные стороны этого искусства, или, говоря правильнее, кризисная сущность этого искусства.
Бидермайер обычно понимают как стиль крайне ограниченный. Более того, как говорит и само слово, — бидермайер — это символ ограниченности, это сама ограниченность. Рихард Гаманн говорит о «скромном и благопристойном» искусстве бидермайера[4]. Против этого трудно возражать. Искусство в это время служит, по-видимому, художественному оформлению жизни, которая как бы и сама по себе уже достаточно хороша и требует для себя лишь скромного украшения, чтобы наслаждение жизнью стало безупречно совершенным. Гармония жизни осязательна: невзгоды и бедствия воспринимаются легковесно, слезы не принимаются; всем вспоминается неоднократно описанный венский — у нас речь идет об Австрии и о Вене веселый и как бы открытый образ жизни, гуляния в Пратере, венское гурманство, дожившее до наших дней; все это реально и только опошлено как коммерческий мотив в литературе и музыке последующих десятилетий.
Укажем хотя бы на такую фигуру первой половины XIX века, как венский поэт и писатель Игнац Франц Кастелли (1781–1862), человек, с известным блеском воплотивший в себе легкомыслие эпохи, без труда расстававшийся и с грузом художественной традиции и нередко даже и с бременем нравственных принципов. Человек, воплощенный как тип Кастелли, живет в свое удовольствие, ни к себе, ни к другим не предъявляет никаких повышенных требований и, главное, в целом и основном, ощущает необыкновенную свободу действий, — как если бы он жил на открытом и пустом пространстве. Но это значит, что для Кастелли, который, как чуткая антенна, воспринимает поверхностный дух времени, второй натурой делаются жутковатые, на наш взгляд, ограничения, налагаемые на духовную жизнь страны в эпоху Реставрации, и он чувствует себя вполне раскованным, когда занимается своим поэтическим журнализмом. Такой парадокс возможен только в католической стране, к тому же пережившей в 80-е годы XVIII века, при императоре Иосифе II, странный и бурный период государственного просветительства, проводившегося сверху через бюрократический аппарат. В первой половине XIX века в Вене живут так, что частная совесть человека, если только он принял правила игры, может быть совершенно спокойна — то и есть основа чувства свободы. Тот же парадокс свободы в стесненных обстоятельствах несвободы можно распознать на разных уровнях и нередко в весьма видоизмененных формах. Франц Грильпарцер, гениальный иоэт-художник, глубоко страдавший в венских условиях творчества, все же никогда не променял бы Вену ни на один европейский город и предпочел полное одиночество и ранее духовное и физическое старение богатым возможностям, открывавшимся перед ним в других городах и странах. Грильпарцер не принял внешних правил игры — беспроблемности как условия полной свободы — однако он только и мог жить реальностью Вены, реальностью этого, а не иного духовного уклада, реальностью этих, а не иных духовных условий и возможностей, — они для него были органическими, и можно было только слить себя с ними — раз и навсегда, всецело.
У Кастелли — одна реакция на условия духовной жизни, реакция беззаботно-положительная; у Грильпарцера — реакция обратная, глубоко пессимистическая, но с полным сознанием того, что здесь, в Вене, у него есть полная свобода страдать на собственный, неотъемлемый от него, лад, тогда как свобода от такого страдания — иллюзия и неисполнимое обещание: темперамент и психологическая интонация личности поэта заранее настроены в тон с эпохой!
У такого выдающегося художника, как Фердинацд Георг Вальдмюллер (.1793–1865), — свой оригинальный творческий отклик на тот же заключенный в основе венской жизни парадокс. То, что поражает или, по крайней мере, должно поражать в Вальдмюллере, — это его полнейшая и данная как бы с самого начала и отнюдь не завоеванная трудом свобода от всякого мировоззренчески определенного, религиозного и мифологического образа действительности, — у него отсутствуют и традиционные античные мотивы искусства, и христианские мотивы встречаются лишь как элементы сюжета, и среди тысячи с лишним живописных произведений, перечисленных в каталоге Бруно Гримшица и Эмиля Рихтера[5], находим одну или две случайные заказные работы с религиозным содержанием (№ 73, 74). Вальдмюллер как бы прорывается к самой реальности, к ее конечной объективности и правде, — так казалось и ему самому, — и то субъективное начало, которое преломляет самое абсолютную реальность отображаемого на картине вещественного мира, кажется уже чем-то случайным и не столь важным и, при всей оригинальности творческого почерка художника, на самом деле не складывается в особый целостный художественный мир, — потому что на каждой отдельной картине «я» художника запечатлено как отступающее на задний план по сравнению с действительностью самой, по сравнению с действительностью, какова она якобы на самом деле. Эта очевидная незатруднительность, с которой Вальдмюллер достигает действительности как она есть, минуя даже и такую преграду, как свое художническое «я», по-видимому, противоречит всему, что происходило в других немецких землях. И там перед художниками встала проблема точной передачи действительности в ее вещественности, в ее материальной реальности. Но, пожалуй, нигде вещественность реального мира, его материальность не сводилась так, как у Вальдмюллера, к вещности мира, — вещественность к вещности, — к тождественности всякой вещи самой по себе: вещь передана наиболее истинно, когда представлена при наиболее выгодном для нее освещении. Это чисто живописная, специфическая проблема: если бы вещи выступали перед нами в дымке тумана, то они не являлись бы перед нами целиком и полностью как таковые, а скрывались бы или скрывались отчасти, — их скрывала бы от нашего взгляда неопределенность неоформленной стихии, — поэтому изображать вещи сквозь туман попросту нелепо, но нелепо лишь постольку, поскольку вся истина действительности полагается в вещи и только вещи как четко оформленном и сложившемся контуре смысла. Коль скоро вещь тождественна себе, то смешно изображать ее в неполноценном, случайном, ущербном состоянии, — например, при свете луны, в вечерних сумерках, сквозь туман. Необходимо исключить даже любое движение воздуха, но лица и предметы следует расположить перед нами так, чтобы между нами и этими лицами и предметами не было никаких преград. У Вальдмюллера была своя эстетика божественно прекрасного, не раз излагавшаяся им в краткой тезисной форме; к этой эстетике нужно отнестись с полной серьезностью, — но эта эстетика божественно прекрасного вела к фотографически точному воспроизведению предмета, — воспроизведению, как мы сказали, при наиболее выгодном для него освещении. И к этой фотографической точности тоже нужно отнестись с полной серьезностью и с должным почтением; солнечный свет Вальдмюллера, тот свет, который словно проходит сквозь равномерное и абстрактно — физическое пространство Ньютона, где расположены и сами вещи, этот свет не просто физический свет солнца, но и свет смысла, а потому и внутренний свет каждой вещи и каждого лица. Этот свет как будто бы не выносит наружу никаких особых глубин, тем более каких-либо психологических глубин человеческой личности, он скорее лица сводит к лицу как реальной вещи, и можно как с иронией, так и с большим снисхождением относиться к этим всегда пышущим здоровьем и бодро отражающим солнечный свет налитым, полным яблокам-лицам на картинах Вальдмюллера. Вещность даже свету, отражаемому воздухом, атмосферой, не дает расплыться так, чтобы свет вставал между зрителем и предметами. Вещность реальности как истинность и эстетика божественно прекрасного являются у Вальдмюллера такими противоречивыми сторонами, которые определяют конкретный облик произведений, — но столь же очевидно, что в творчестве Вальдмюллера гораздо легче увидеть беспроблемную идилличность, чем творческую противоречивость.