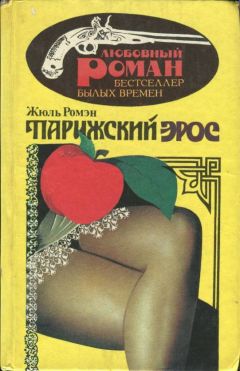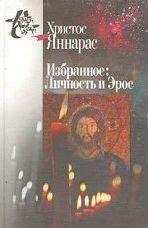Горько-сладкий эрос - Карсон Энн
Стоит влюбиться, и вы оказываетесь выхвачены из обыденной жизни. Единственное, что заботит влюбленных, – быть с возлюбленными. Сократ описывает это так:
…ἀλλὰ μητέρων τε καὶ ἀδελφῶν καί εταίρων πάντων λέλησται, καὶ οὐσίας δι᾽ ἀμέλειαν ἀπολλυμένης παρ᾽ οὐδὲν τίθεται, νομίμων δὲ καὶ εὐσχημόνων, οἷς πρὸ τοῦ ἐκαλλωπίζετο, πάντων καταφρονήσασα δουλεύειν ἑτοίμη καὶ κοιμᾶσθαι ὅπου ἂν ἐᾷ τις ἐγγυτάτω τοῦ πόθον·
…от своего красавца не отстает она по доброй воле и ставит всех ниже его; о матери, о братьях, о всех приятелях забывает она; хотя имущество ее, от нерадения, гибнет, ни во что она это не ставит; презрев все установленные благоприличия, которым ранее следовала, душа готова служить в рабстве, лишь бы покоиться как можно ближе к предмету своего вожделения, где только позволят.
Влюбленность, утверждает Сократ, смещает представления о том, что важно. Отсюда неадекватное поведение. Правила приличия оттесняются на обочину. Это – обычное переживание (pathos) влюбленности, подытоживает Сократ, и люди дали ему имя Эрот (252b).
Но у бога Эрота есть другое имя, внезапно сообщает Сократ и далее обыгрывает внезапное откровение каламбуром. Поскольку игра слов – несколько натянутая форма аргументации и ее убедительность порой граничит с нечестностью, серьезные авторы, прибегая к ней, чувствуют себя обязанными извиниться; вот и Сократ предупреждает Федра, что выйдет «нечто нахальное» (hybristikon panu) (252a) и, возможно, это вообще неправда («всему этому можно верить, можно и не верить», 252b). Вдобавок ему приходится нарушить законы метрики, поскольку игра слов состоит из двух неподтвержденных строчек Гомера и во второй размер не выдержан. Строки эти обращаются к разнице между языком, на котором говорят боги, и тем, на котором разговаривают люди. Что касается слова, означающего желание, разница состоит лишь в паре букв:
Добавив к имени бога любви буквы – pt, боги создали Птерота; игра слов: pteron по-гречески – «крыло». А значит, на языке богов желание и звучит как «то, что с крыльями» или «то, что имеет отношение к крыльям». Зачем? У богов есть причины, а именно: желание нужно для того, чтобы вырастить крылья.
То, что у богов имеется свой язык, – довольно старое представление греков. Гомер намекает на божественный язык несколько раз (Il., I, 403–404; II, 813; XIV, 290–291; XX, 74; Od., X, 305; XII, 61), и Платон затрагивает эту тему в своем «Кратиле» (Crat., 391 ff). Современные филологи предполагают, что в данном случае мы столкнулись с остатками различий между греческим и догреческим населением материковой части страны. Древние же греки выдвигали куда более смелую гипотезу. «Ведь совершенно ясно, что уж боги-то называют вещи правильно – теми именами, что определены от природы», – говорит Сократ в «Кратиле» (Crat., 391е). Было бы приятно думать, что божественные названия имеют более точные значения или бо́льшую выразительность, чем смертные. К сожалению, в большинстве примеров, дошедших до наших дней, этого не увидишь, но во времена Платона, очевидно, это считалось вполне жизнеспособным предположением, и совершенно точно именно это подразумевается Сократом в «Федре», как и в «Кратиле». «Ясно ведь, что они-то уж называют себя истинными именами», уверяет он в «Кратиле» (Crat., 400е). Птерот истиннее, чем Эрот.
Можно сказать, что имя Птерот истиннее, чем Эрот, поскольку это имя объясняет нам не просто, как должно зваться желание, но и почему оно должно так зваться. Или же, по выражению Сократа, божественное имя включает в себя как pathos (опыт, могущий быть описанным), так и aitia (определяющую причину или объяснение) желания (252с). С первой же строки Гомеровой цитаты очевидно, что смертные, даже не зная истинного имени Эрота, оказались достаточно воспримчивыми, чтобы осознать pathos опыта, ощутить, как желание захватывает их изнутри. Но они понятия не имеют, почему этот опыт должен иметь именно такой, особенный, характер. Они не понимают aitia чувства. Боги знают причину, почему это так. Исходя из этого знания, они и дают имена.
А значит, Птерот – чистая удача на семантическом уровне. Но на поэтическом уровне это ошибка. Сократ предупреждает, что его цитата нарушает метрические законы, оставляя нам самим догадываться, что причиной слома ритмики во второй строке является именно слово Птерот. Это проблема: гомеровский стих – дактилический гекзаметр, и все прекрасно ложится в ритмическую структуру, за исключением слова de, предшествующего божественному имени Птерот. De по природе своей – один краткий слог и в строке стоит в позиции, где как раз требуется краткий, однако в греческой просодии краткий слог, после которого стоят две согласных разом, по всем правилам читается как долгий. Таким образом, pt, которым боги удлинили имя erōs, приводит стих к метрической дилемме. Эта конфигурация нам уже знакома: напомним про Софокловых детей, которым одновременно хочется и держать льдинку, и отпустить ее. De не может быть разом и долгим, и кратким слогом; во всяком случае, не в той реальности, какая у нас есть.
А вот боги, очевидно, видят иную реальность. Но неудивительно, если их лучшая версия истины сопротивляется снижению до человеческих масштабов. В конце концов, они создания бесконечные, и античная мысль пропитана представлениями о несопоставимости путей божественных и человеческих. Гомеровской цитатой Платон придает этому клише особенный значимый поворот. Птерот подрывает нашу метрику точно так же, как Эрот ломает нашу жизнь. Метрика по сути своей – способ управлять словами во времени. Мы осуществляем этот контроль в интересах красоты. Но когда крылатый Эрот влетает в нашу жизнь, он приносит свои собственные стандарты красоты и попросту отменяет «все установленные благоприличия, которым ранее следовала» наша душа (252а).
Изувеченный Платоном эпический стих воплощает сделку человека и Эрота. Условия жестоки: мы можем существенно расширить смысл, но лишь ценой формальной красоты стихотворной строки. Если изменить условия на противоположные, можно увидеть отражение Лисия – с мастерством и расчетливостью опытного сочинителя он придумывает идеальную историю любви, которая не имеет смысла.
Крылья Эрота знаменуют главное различие между богами и смертными, ведь они бросают вызов человеческому выражению смыслов. Наши слова слишком мелки; стихотворные размеры чересчур ограниченны. Но подлинное значение желания не может быть постигнуто человеческим разумом не только на уровне орфографии или метрики, то есть, не только на формальном уровне. Даже когда мы видим проблеск Эрота в его божественной сущности, даже когда стихотворная строка случайно приоткрывает нам подлинные pathos и aitia желания, мы, вероятнее всего, не до конца постигаем их. К примеру: что эпический поэт хотел сказать строками о крыльях? Любой перевод будет нелеп – ведь переводчик не знает, как Эрот заставляет расти крылья. На первый взгляд нам сообщают божественную aitia подлинного имени Эрота. Но чьи это крылья и кому они нужны? Есть ли у самого Эрота крылья? Отращивает ли их он себе? Побуждает ли Эрот других иметь крылья? Заставляет ли он их нуждаться в крыльях и желать их? После прочтения эпической строки в голове роятся самые разные возможности, не то чтобы несовместимые друг с другом. Возможно, конечно, что боги, сколь бы возвышенной ни была их манера, могли подразумевать разом все значения в имени Птерот. Но знать этого мы не можем. Как говорит собеседнику Сократ в «Кратиле», обсуждая тот самый вопрос о божественном языке и более емких значениях: «Вне сомнения, это имена куда больше, чем ты или я можем себе представить» (382b).