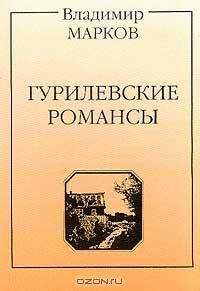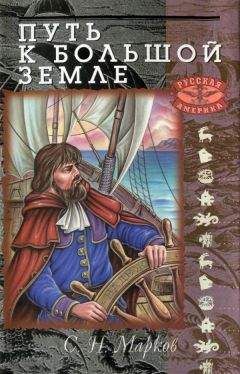Алексей Марков - Что значит быть студентом: Работы 1995-2002 годов
III. Студенческий габитус эволюционирует от индивидуалистичных к коллективистским моделям конструирования реальности. Практики дореволюционного студента рассматривались как разрыв с гимназическим принуждением. Собственно индивидуализм мысли и действия может быть определен в качестве студенческой практики до начата эпохи «пролетариев». Последние приносят дискурсивно-практическую картину-реализацию мира, в центре которой — рабочий коллектив. Даже приобретение знаний и художественное творчество могут быть коллективными. Однако нередко «коллективное» оказывается индивидуализирующим: таковы некоторые последствия рационализации быта и сексуальности.
IV. Маргинальность как глубинная студенческая характеристика по факту социальной позиции/статуса группы, реконструируемая по-своему каждым новым поколением студентов, проявилась в той же мере в индивидуализирующем, выделяющем дискурсе и практиках дореволюционного студента, как и в «пролетарском коллективизме» «красного» студента нэповских лет. Студенчество оставалось сообществом, открытым социальным экспериментам.
И — несколько общих замечаний. Представляется перспективным изучать эволюцию социальной идентичности на «стыках» разных социальных объектов в процессе изменения, отправляясь от известных размышлений Ф. Барта[365]. При этом необходимо погружение в мир частных индивидуальных опытов, скрупулезно «герменевтически» интерпретируемых, без отрыва языка от практики. Такое погружение выявит, с одной стороны, случайность искомых реализаций идентичности, а с другой — заданность самой этой случайности. В конечном счете именно многомерность и неуловимость предрешенного допускает произвольность решения. Индивидуальный опыт следует, таким образом, рассматривать не как пример, но как участника, «сотворца» процесса, определяемого как самосознание.
Приложение
От враждебности к общему языку:
вокруг конфликтов по призыву студентов в армию в годы Гражданской войны[*]
Проблемы политики большевиков в высшей школе в годы Гражданской войны неоднократно освещались в отечественной и зарубежной историографии[367]. Однако студенческий аспект этой политики затрагивался явно недостаточно, в особенности касательно «обратной реакции» студенчества на правительственные меры. Но если в случае российских историков многое объясняется «идеологическими предписаниями» и статусом советской исторической науки, то западная историография, видимо, стала «жертвой» нехватки источников и кажущейся периферийности сюжета. Правда, в самое последнее время ситуация меняется: большая доступность российских архивов уже привела к появлению любопытнейших работ П. Конечного[368].
Их публикация — преимущественно по истории студенчества СПбГУ в 1920-е годы — сделала очевидной и значимость самого сюжета. Важность института высшей школы в обществах Нового времени, впрочем, и без того трудно переоценить: готовя интеллектуальную элиту, связывая знание и власть, университет (институт) во многом определил «лицо» этих обществ. Студенты — тот «материал для обработки», из коего должен получиться «натренированный» правящий класс. Неудивительно, что большевики, сама идеология которых претендовала на статус науки, уделяли образованию, в частности высшему, самое серьезное внимание. Ленин неоднократно вмешивался в деятельность наркомата просвещения и активно участвовал в определении приоритетов образовательной политики в начале 1920-х годов; не следует забывать того факта, что «курировала» Наркомпрос жена вождя Н. К. Крупская[369]. Сам нарком просвещения А. В. Луначарский, при всей незначительности его политического влияния, являлся заметной фигурой первых лет революции, известным широкой публике оратором и полемистом[370]. Тройка Ленин — Крупская — Луначарский фактически определяла правительственный курс в сфере образования в 1917–1920 годах[371].
Даже неспециалисту очевидно, что отношения новой власти с «населявшими» университет профессорами и студентами не могли быть безоблачными. Характер этих коллизий в годы Гражданской войны в Петрограде, именно в связи с призывом студентов в Красную Армию, составляет предмет настоящей статьи.
Теоретической основой исследования автор избрал некоторые модели когнитивной психологии, прежде всего концепции «групповых верований» Д. Бар-Тала, социальной категоризации Г. Тэджфела и социальных представлений С. Московичи. Первая из них представляется «удобной» с точки зрения анализа студенческих представлений и ценностей. Бар-Тал вновь вводит в социально-психологическую науку понятие «коллективного» (группового) верования, освобождая его от метафизичности и анаучности начала века. Единственным носителем этих верований признается индивид: только в психике последнего могут быть представлены нормы, ценности и идеология группы. Интегрированные в общность индивиды наделены сходством в своих верованиях, — хотя бы в одном: «Мы — группа». Базовые характеристики групповых верований, по Бар-Талу, суть 1) центральность, 2) степень доверия, 3) функциональность, 4) взаимная соотнесенность. Очевидно, что степень доверия к «центральным» верованиям у членов группы должна быть максимальной. Центральность измеряется частотой обращения индивида к тем или иным ценностям (нормам и т. п. верованиям) своей группы в повседневной «мыслительной» деятельности. Функции верований различны, но среди них можно выделить две важнейшие — идентификации и информации. Первая позволяет индивиду отождествить себя с тем или иным сообществом, вторая дает ему информацию о собственной группе, мире и обществе. Взаимная соотнесенность означает констатацию того, что верования пребывают не в самоизоляции, но связаны друг с другом[372]. В результате экспериментов английского психолога Г. Тэджфела был открыт феномен ингруппового фаворитизма, возникающий одновременно с отнесением себя индивидом к любой, пусть даже воображаемой общности. С фаворитизмом неразрывно связана и аутгрупповая враждебность[373]. Наконец, французские социальные психологи школы С. Московичи теоретически и методически обосновали понятие «социального представления», заимствованное у Э. Дюркгейма. По определению Д. Жоделе, этот концепт «описывает форму специфического познания, знание здравого смысла, содержание которого демонстрирует действие повторяющихся, функциональных и социально окрашенных процессов», или, более абстрактно, «описывает форму социального мышления». «Социальные представления — модальности обыденного сознания, ориентированные на коммуникацию, понимание и освоение социальной среды, материальной и идеальной. Как таковые, они представляют специфические особенности организации содержания, ментальных операций и логики. Социальная маркировка содержания или процессов репрезентации относится к условиям и контексту, в которых возникают эти представления, к коммуникации, посредством которой они циркулируют, к функциям, которые они обслуживают во взаимодействии с миром и другими представлениями». Таким образом, современный индивид осмысливает окружающий его мир и свое место в нем в форме «социальных представлений», облегчающих задачу при столкновении с «неожиданным»[374]. Применительно к обсуждаемому сюжету — студенчество и власть в 1917–1920 годах — использование мною перечисленных концепций будет упрощенным: они помогут интерпретировать и структурировать историческую реальность. Однако мы не пользуемся при этом трудоемким научным аппаратом социальной психологии. С точки зрения последней данная работа — отнюдь не строгое исследование. Ориентиром для моего «псевдонаучного» метода был анализ Д. Бар-Талом антисемитских «верований» в нацистской Германии в 1933–1945 годах[375]. Кроме того, «успокоению» автора служила опора на историографическую традицию скрупулезного изучения документов и литературы вопроса, что само по себе позволяет выявить центральные (в барталовском смысле) верования студенчества рассматриваемого периода со значительной степенью достоверности.
В уже упомянутых выше работах П. Конечного широко используется понятие студенческой субкультуры[376]. Оно также дает возможность «перекинуть мостик» к новым подходам, основанным на теориях современной когнитивной социальной психологии. Канадский историк показывает, как весьма устойчивая в своей изолированности, элитарности и одновременно маргинальности субкультура российского студенчества абсорбирует разнообразные «интервенции» советского режима, сохраняя, однако, свою идентичность[377]. В связи с этим любопытно проследить начало советских «приключений» одного из центральных верований дореволюционного студента — идеологии автономизма и самоуправления, враждебности к самой идее (не говоря о практике) государственного вмешательства в жизнь университета.