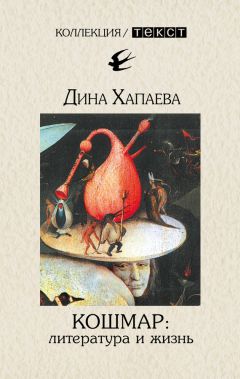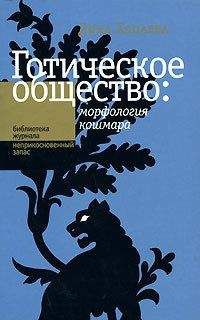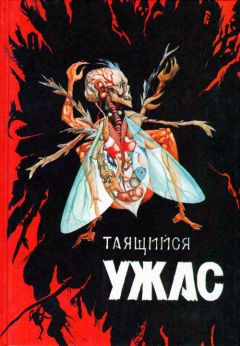Дина Хапаева - Кошмар: литература и жизнь
Не на обратимости ли времени кошмара строятся и пророчества, и провидения, которыми так богато это произведение? Не потому ли Голядкин, «хозяин» кошмара, все время понимает, что нечто еще более ужасное ждет его впереди?
Итак, Достоевский опробует в «Двойнике» важнейшие фигуры гипнотики кошмара, строит свое повествование таким образом, чтобы сделать кошмар узнаваемым для читателей. Гипнотика позволяет до предела насытить текст элементарными частицами кошмара, которые в более схематичном виде мы наблюдали в прозе Пелевина и Лавкрафта. Понятно, что Достоевский, опираясь на опыты Метьюрина и Гоголя, создал в своем тексте образец гипнотики кошмара. Но текст Достоевского уникален вовсе не благодаря этим смелым экспериментам, которые будут воспроизводить — сознательно цитируя его или же изобретая наново — другие писатели, стремившиеся передать кошмар. То, что делает Достоевский в прозе, не делал никто. Возможно, в некоторых стихах над этим работал Мандельштам. Речь идет об исследовании особых отношений кошмара с речью, с языком.
Бормотанье кошмара
Известно, что целые рассуждения проходят иногда в головах наших мгновенно, в виде каких-то ощущений, без перевода на человеческий язык, тем более на литературный. Но мы постараемся перевести все эти ощущения героя нашего и представить читателю хотя бы только сущность этих ощущений, так сказать, то, что было в них самое необходимое и правдоподобное. Потому что ведь многие из ощущений наших, в переводе на обыкновенный язык, покажутся совершенно неправдоподобными. Вот почему они никогда и на свет не являются, а у всякого есть.
Ф.М. Достоевский. «Скверный анекдот»«Двойник» похож на жизнь прежде всего тем, как мы ее воспринимаем в повседневности наших эмоций, в повседневности непереводимости эмоций на язык слов, в преддверии превращения эмоций в слова и в жизнь…
И. АнненскийКогда читаешь это странное запутанное произведение, фантастичность событий которого бросает вызов здравому смыслу на каждой странице, от него, несмотря на длинный список этих и других претензий критиков, невозможно оторваться. Недаром в письме брату Достоевский писал о том, что все ругают «Двойник», но при этом все «читают и перечитывают». В чем состоит секрет его удивительной притягательности?
Этот вопрос тесно связан с другим: почему, если считать, что Достоевский описывал психологию раздвоения личности или пытался передать, как считал Бахтин, «самосознание героя», он выбрал героя, который так чудовищно косноязычен?
Ведь если бы автор ставил перед собой любую из названных задач, то ему был бы нужен герой, одаренный даром слова, способный передать читателю тончайшие нюансы своих удивительных и неведомых читателю эмоций. Такого героя, например, выбирает себе Эдгар По, когда он описывает двойника в «Вильяме Вильсоне», пример, который был известен Достоевскому. Вот как изъясняется герой По, мучимый своим двойником:
Но какими словами передать то изумление, тот ужас, которые объяли меня перед тем, что предстало моему взору? Короткого мгновения, когда я отвел глаза, оказалось довольно, чтобы в другом конце комнаты все переменилось. Там, где еще минуту назад я не видел ничего, стояло огромное зеркало — так, по крайней мере, мне почудилось в этот первый миг смятения; и когда я в неописуемом ужасе шагнул к нему, навстречу мне нетвердой походкой выступило мое собственное отражение, но с лицом бледным и забрызганным кровью [337].
А что мы слышим от героя поэмы Достоевского в самый драматический момент, накануне явления двойника? Его речь состоит из обрывков бессвязных фраз, неоконченных предложений и междометий:
«Что ж, это мне почудилось, что ли? — сказал господин Голядкин, еще раз озираясь кругом. — Да я-то где же стою?.. Эх, эх!» — заключил он, покачав головою, а между тем с беспокойным, тоскливым чувством (…) стал вглядываться в мутную, влажную даль (…) «Эх, эх! Да что ж это со мной такое?» — повторил опять господин Голядкин, пускаясь в дорогу (…) [338]
После этой «невыносимо неприятной минуты», непосредственно перед тем, как появится двойник, герой снова обращается сам к себе, но и на сей раз его речь едва ли способна передавать тонкие движения души:
«Ну, ничего, — проговорил он, чтоб себя ободрить, — ну, ничего; может быть, это и совсем ничего и чести ничьей не марает. Может быть, оно так и надобно было, — продолжал он, сам не понимая, что говорит, — может быть, все это в свое время устроится к лучшему, и претендовать будет не на что, и всех оправдает». Таким образом говоря и словами себя облегчая, господин Голядкин отряхнулся немного (…) — но странного чувства, странной темной тоски своей все еще не мог оттолкнуть от себя, сбросить с себя. Где-то далеко раздался пушечный выстрел. «Эка погодка, — подумал герой наш, — чу! не будет ли наводнения? видно, вода поднялась слишком сильно». Только что сказал или подумал это господин Голядкин, как увидел (…) прохожего… [339]
Это и был двойник.
Что там «психологические тонкости» — автор, и не только в этом эпизоде, но и в ряде других мест поэмы, прямо говорит нам, что в эту роковую минуту его герой «сам не понимает, что он говорит». Но почему-то этот факт совсем не смущает Достоевского. Вот Голядкин бежит следом за двойником:
Какая-то далекая, давно уж забытая идея, — воспоминание о каком-то давно случившемся обстоятельстве, — пришла теперь ему в голову, стучала, словно молоточком, в его голове, досаждала ему, не отвязывалась прочь от него. «Эх, эта скверная собачонка!» — шептал господин Голядкин, сам не понимая себя [340].
А вот как звучит, в роковой момент первой встречи с двойником, обращенное к самому себе бормотание героя — поскольку ни «монологом», ни «диалогом», ни даже «внутренней речью» не назвать этот бессвязный поток слов, очевидную нелепицу:
«Впрочем, подождем-ка мы дня и тогда будем радоваться. А впрочем, ведь что же такое? Ну, рассудим, посмотрим. Ну, давай рассуждать, молодой друг мой, ну, давай рассуждать. Ну, такой же, как ты, человек, во-первых, совершенно такой же. Ну, да что ж тут такого? Коли такой человек, так мне и плакать? Мне-то что? Я в стороне; свищу себе, да и только! На то пошел, да и только! Пусть его служит! Ну, чудо и странность, там говорят, что сиамские близнецы… Ну, да зачем их, сиамских-то? положим, они близнецы, но ведь и великие люди подчас чудаками смотрели. Даже из истории известно, что знаменитый Суворов пел петухом… Ну, да он там это все из политики; и великие полководцы… да, впрочем, что ж полководцы? А вот я сам по себе, да и только, и знать никого не хочу, и в невинности своей врага презираю. Не интригант, и этим горжусь. Чист, прямодушен, опрятен, приятен, незлоблив…» Вдруг господин Голядкин умолк, осекся и как лист задрожал, даже закрыл глаза на мгновение [341].
Он открыл их, как мы помним, только чтобы убедиться: рядом с ним по-прежнему семенил его двойник. Речь Голядкина не только не художественна — он явно не способен внятно изложить свои чувства, возможно, потому, что он сам не понимает, что с ним происходит? И следовательно, не ее смысл должен позволить нам судить о том, что герой испытывает. С его губ срывается какой-то заговор, которым он пытается успокоить и ободрить себя. Его несвязный, лишенный всякой внутренней логики и всякого очевидного смысла бред, нелепое бормотанье… не напоминает ли оно что-то удивительно знакомое?
Может быть, герой более красноречив и его самосознание раскрывается читателю при других обстоятельствах? Нет, его речь остается столь же путаной и сбивчивой на протяжении всей поэмы, что, как мы видели, почему-то мало заботит автора. Даже когда герой вступает с кем-нибудь в диалог, его речь не становится более внятной или образной.
Не забудем, что герой по нескольку раз на странице впадает в состояние забытья, что тоже не помогает читателю следить за развитием его мысли или сюжета:
Очнувшись, он увидел, что его везут по Фонтанке. «Стало быть, к Измайловскому мосту?» — подумал господин Голядкин… Тут господину Голядкину захотелось еще о чем-то подумать, но нельзя было; а было что-то такое ужасное, чего и объяснить невозможно… [342]
То, что произносит господин Голядкин, явно не служит для объяснения логики его поступков или развития событий. Еще в меньшей степени позволяет это бормотание раскрыть самосознание героя, его внутренний мир. Наоборот, оно скорее демонстрирует его полную неспособность ни к самосознанию, ни к самоанализу.