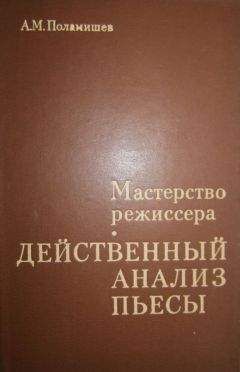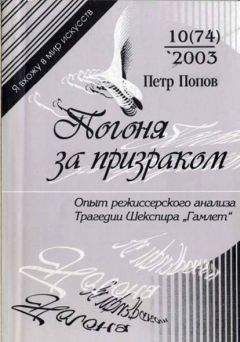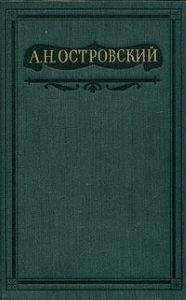Мар Сулимов - Режиссер наедине с пьесой
Раневская нервна, раздражена, беспокойство владеет ею. Но это вовсе не проблема продажи имения, хоть она как будто бы и понимает, что означает реально эта потеря. Но решает она или, лучше сказать, хотела бы решить другую проблему - Париж. Отказаться от него она не может, это сильнее ее, но это же означает и крах ее мечты, надежды на духовное освобождение и воскрешение. А если так - вопрос потери имения отступает на второй план, и, хотя от этого все зависит, но волнует он ее уже как бы по касательной. Так начинается процесс измены, предательства своего белого-белого Вишневого Сада, в спасительную силу которого она так страстно верила еще три месяца назад. Но парижскую телеграмму все-таки рвет. Не потому, что хочет, а потому, что надо. И такой искренне желаемый отказ от Парижа, от прошлого, в первом акте превращается в принудительный отказ. Надо! Но... А ведь что может быть мучительнее этакого "подвешенного" состояния, когда, что ни делай, что ни решай - все не приносит ни уверенности, ни равновесия. Ужасно. Вот нервы-то и пляшут. А когда они пляшут, то случайный повод, случайное слово могут вызвать обвал того, чем более душа, что извело, измучило. Так, вспомним, и рождается самый сильный, самый страстный и страшный для нее рассказ-исповедь "О, мои грехи..." Признание, самообнажение до самого-самого донышка.
Слава Богу, донеслись звуки музыки. Можно отвлечься от этих душевных мук, неразрешимых вопросов... Отдаться на волю ласкового ветерка, вечерних ароматов, закатного солнца, и легкой, ни к чему не обязывающей болтовне о еврейском оркестрике, о театре, о серой жизни, о том, что хорошо бы Лопахину жениться на Варе, и т.д. и т.д... И только нет-нет и - прокол! - обнаружит себя тревога: имение-то продадут, и надо бы что-то сделать... бы...
Думается, главный признак этого акта - элегичность, этакое "дольче фар ниентэ", сладостное безделье. Снаружи - элегия, внутри же - страсти, душевный разброд, мучительная нерешенность.
Такова большая сцена с прихода Трофимова с девушками и до "звука лопнувшей струны".
Как хорошо! Ласково, любовно, шутливо. Да еще и с интеллигентными рассуждениями... Так бы вот жить и жить, словно бы и имение не продается, и вишни круглый год цветут, и Парижа нет на свете, и о всяких социальных бедах-злосчастьях пофилософствовать. Это любимая тема Пети. Хорошо поговорить о любимом, лежа на густой траве-мураве, на теплой родимой земле, среди милых любимых людей, рядом с самой прекрасной на всем свете девушкой... Дивно. Элегия. Все они сейчас отдыхают. От жизни. От себя... И никакой тут политики, классовой борьбы... Ради Бога!... Отдыхайте... радуйтесь теплу, закату, друг другу, пиршеству духа!...
А на настырный режиссерский вопрос: "Какое действие? Что они делают?" - ответ один и исчерпывающий: Наслаждаются этой минутой и больше ничего... ничего больше, как положено живым людям, а не "действующим роботам".
Тем не менее, Лопахин с интересом, с постоянным своим стремлением понять, что же такое знает Трофимов, чем таким владеет, что делает его и свободным, и независимым, прислушивается к его длиннющей речи. Только все это сквозь главное - наслаждение этой минутой, этой духовной атмосферой, этим "дольче фар ниентэ". Это очень важно. Так редко теперь увидишь в театре сцену с "атмосферой", с "воздухом", которым дышат, живут действующие лица. Действие, действие, действие! Ну, конечно же, куда нам без "действия"! Только ведь истинное действие складывается из такой огромной суммы слагаемых, и среди них есть такие тончайшие и едва уловимые, что прямолинейность в ответе на вопрос "что есть действие? какое оно здесь - действие?" способна убить не только "жизнь человеческого духа", но даже самую вульгарную и убогую ее имитацию!
Итак, вот они, эти славные люди, сидят, лежат на траве, нежатся.
"...задумались. Тишина. Слышно только, как тихо бормочет Фирс. Вдруг раздается отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный".
Событие. Внезапное. Взорвавшее элегический покой и очарование предыдущей сцены. Назовем его хоть "Знак несчастья". Из чудесного путешествия в беспечное блаженство он возвращает всех в круг забот, горестей, умирающих в корчах иллюзий. Тревога, ощущение тревоги, непонятное, как предчувствие.
И вот - разгадка.
Третье приведение. Прохожий. Образ угадываемого будущего. Дурацки схожий с Леонидом Андреевичем Гаевым. Но и не с ним одним. Никто в этом не признается, но каждый это почувствовал. И засуетились, засобирались, шутками пытаются отогнать то, чего не отгонишь. Только - страшно. Одним - страшно, другим стало неуютно, напряженно и тревожно. И тут-то, на уходе, Лопахин скажет:
"Напоминаю вам, господа, двадцать второго августа будет продаваться вишневый сад. Думайте об этом!.. Думайте!.."
Заметьте: он не сказал "будет продаваться имение". Он сказал "вишневый сад", тот самый сад, который он предлагал за полной его бесполезностью вырубить. Только мы-то теперь знаем, привыкли к тому, что это не просто сад, а нечто совсем иное и куда более важное.
И последняя сцена, последнее событие. Петя и Аня наконец-то остались одни. О природе их отношений, чистых и лучезарных, я уже говорил достаточно подробно. Что тут происходит? Ищется ответ на вопрос - как жить, ради чего? Да. Безусловно. Близится день, когда должна произойти перемена, будет продано имение, должна начаться какая-то иная новая жизнь. Прошлая жизнь для Ани зашла в тупик, где выход? Прежние идеалы тускнеют, рушатся, где другие, новые, и какие они?
Как занятно и тонко! Второй акт начинается почти сатирической сценой, где тоже ищут ответа как жить, где ищут духовность, вроде бы отстаивают идеалы. И кончается акт тем же - как жить? Во что верить? Какому Богу служить? Но как же непохожи они друг на друга! И опять же "кривое зеркало", и финал акта отразится в его начале.
А финал удивителен, пленителен. Смысл, разумное содержание этой сцены я только что рассказал. И все правильно. Все так. Конечно же, Аня ищет дорогу в будущее, а Трофимов увлекает ее на свой путь, в свою веру, и Аня вроде бы поддается. И если идти в анализе путем отыскания рационального "действия", то все будет именно так и вполне правильно. Но этот разумный ответ не имеет ничего общего с истинным содержанием этой любовной сцены. Самое важное, самое главное в ней то, что это долгожданное свидание наедине после длительного пребывания в обществе то Вари, то других, пусть и очень милых людей. Аня и Петя дорвались до этой минуты, до этого свидания. Наконец они свободны, наконец они могут вести себя так, как им хочется, говорить о своем, о самом важном и заветном, о котором говорить могут только друг с другом. И сцена, в которой как бы обсуждаются вопросы, как жить дальше, на самом деле - про их влюбленность, про их молодость, радость жизни. И такое упоение радостью бытия, такой праздник чистых светлых душ! И серьезное у Ани - да, серьезное, она так или иначе жизнь свою ищет - мгновенно находит выход в шалость, в игру. Трофимов же - раскованно счастлив, добирает здесь непрожитую юность, почти детство. Шалит, валяет дурака, на руках ходит, колесом катается. Речи его - избави Бог! - ни в малейшей степени не агитация, не формирование в Ане "классового сознания". Это его радость, его счастье так думать, так чувствовать. И счастьем этим он делится с ней, одаривает ее этим счастьем, чтоб и она была так счастлива, чтоб и ей было так хорошо, как ему.
И вот принципиальное для меня замечание: в разборе этой сцены я наметил те две линии анализа, о которых говорил выше. Скажем так - рациональную, идущую по логике смысла, по фабуле, и чувственную, идущую по логике чувств, а следовательно, по логике жизни человеческого духа. Совершенно очевидно, что вторая не должна аннулировать первую. Напротив, в смысловой сфере - полностью ее сохраняет. Но придает ей правду сиюминутной жизни, наполняет "рациональное" горячей кровью этой жизни и конкретностью обстоятельств. Очень сильно развитое ныне в режиссуре концептуальное мышление, умозрительное конструирование спектакля, а также тяготение к превращению технологии в творческом процессе из средства в цель его, приводит к тому, что первая - рациональная - линия оказывается если не единственной а анализе, да и в реализации тоже, то доминирующей. И таким образом, главная цель театра и коренное положение эстетики Станиславского - "создание "жизни человеческого духа" в роли и передача этой жизни на сцене в художественной форме" - оказывается отодвинутой на второй план, а то и вовсе попранной. "Жизнь человеческого духа" - это синтез разума и чувства, их хитроумная взаимозависимость, нерасторжимая связь сознательного - разума - и бессознательного, неуправляемого - чувства. Но в этом тандеме исследование чувства должно занимать ведущее, направляющее положение и опираться на все то, что поставляет нам рассудочное исследование обстоятельств, смысла, поступков действующих лиц. Как ни крутись, а если мы уходим от этого пути, мы неизбежно несем потери, угнетающие духовную сторону театра. Ведь кажется так очевидно, что больший или меньший отход от чувственной линии ослабляет, а то и вовсе убивает правду жизни действующего лица.