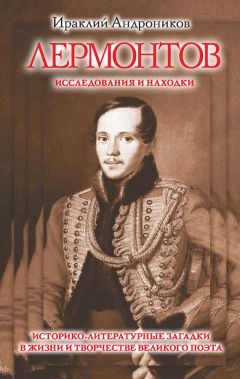Олег Егоров - М. Ю. Лермонтов как психологический тип
Но и та сатира, которая содержалась в стихотворении «Булевар», бичевала этот «мир наоборот» не слабее менипповой сатиры. Лермонтов изобразил настоящую карнавальную площадь с ее героями-масками, скрывающими свою подлинную социальную сущность: «красотку в сорок лет», молодящегося похотливого «старика с рыжим париком», развратную княжну, имеющую на него свои виды, дряхлого аристократа с душой, ушедшей в ноги, и других персонажей «булеварного маскерада». Лермонтов, однако, показал здесь именно шествие масок. Он был еще далек от «балаганной» стихии площади, которая вырвется наружу в годы его учения в Школе. Надо было получить урок жизни в казарме, чтобы почувствовать разницу между невинной игрой «актеров» патриархальной Москвы и мертвыми куклами официального Петербурга. Лермонтовская муза, затянутая в мундир строгого каченного устава, как будто забыла язык любви, честолюбивых мечтаний, горьких сомнений и заговорила на диалекте гусарского застолья, ночных бдений в укромных окраинах города, площадной фамильярности народного гулянья. Начало было положено «юнкерской молитвой», в которой ее лирический герой пока скромно просит ослабить стеснительные оковы «фрунта и рядов»: тесной куртки, маршировки, пунктуальности.
Подлинно карнавальные похождения начинаются с ритуала переименования. Официальные имена и звания заменяются характерными прозвищами: Маёшка, Монго, Лафа, Клерон, Феля. «Вся, всё и все втягивались в сферу фамильярного общения. Разрушение иерархической дистанции в отношении мира и его явлений». «Каждому слову официальной сферы соответствует слово-прозвище вульгарной фамильярной сферы».[363] Князь Барятинский в «Гошпитале» – «курвин сын», и наоборот, гусар Разин из «Уланши» – князь Нос.
Другой особенностью карнавально-балаганного мира является его экстерриториальность. Действие трех произведений юнкерского круга («Гошпиталь», «Петергофский праздник», «Монго») разворачивается в Петергофе, «Уланши» – «за Ижоркой», на квартирах. Конечно, гвардейские офицеры служебно прикреплены к определенному месту, но у Лермонтова Петергоф и его окрестности выступают как территория праздничной свободы, разгульного веселья, таящего соблазны для молодых людей, как место всего неофициального. Здесь «кто в сбруе весь, кто без штанов».[364];
Там есть трактир… и он от века
Зовется «Красным кабачком».[365]
Надвинув шапку на затылок,
Идет, и все брынчит на нем.[366]
Даже «Петергофский гошпиталь» у Лермонтова выделен курсивом, что подразумевает его особое положение в круговороте жизни служащих офицеров. Место происходящих событий – территория абсолютной свободы, расхристанности, фамильярного общения и игнорирования социально-иерархической субординации.
Наиболее типичным произведением в этом отношении является, безусловно, «Петергофский праздник». В нем представлены все основные признаки карнавально-балаганной стихии: смешение сословий, выход из-под власти официальных норм, праздничная вольность. Случайная встреча героя с проституткой тоже входит в закономерности карнавального круга. «Особо нужно подчеркнуть тему проститутки, – поясняет Бахтин данный элемент фольклорных народно-праздничных форм, – неофициальный мир проституток в первомайскую ночь получает право и даже власть ‹…›»[367] Мир в это время построен по принципу колеса: в нем постоянно меняются и переходят друг в друга верх и низ, социально высокое и низкое, хвала и брань. Площадная брань дается здесь в специфическом аспекте человеческого тела. Если в официальной культуре хвала и брань резко разделены, то в карнавально-балаганном мире у Лермонтова они обретают двутонный образ. В словесной перепалке герои «Петергофского праздника», юнкер и его случайная знакомая Маланья перебраниваются такими разностильными фразами: «постой, моя душа!» – «Молчать»; «Как этак обращаться с дамой» – «Ах, сукин сын, подлец, дурак».
Смешение стилей свойственно и поэме «Гошпиталь». Здесь данная тенденция проявляется в характеристике персонажей. Например, хозяйка квартиры на антресолях госпиталя в зависимости от сюжетного хода именуется то «слепой барыней», то «безумной барыней». Также в зависимости от контекста дается ее социальный портрет:
Старушка дряхлая, слепая,
Жила с усатым ямщиком[368];
В широких креслах, в кофте белой,
В очках, недвижна, как гранит,
Слепая барыня сидит.[369]
[«‹…› Характерно сочетание непристойности с образом старухи ‹…› Это сочетание эротики и старости связано с двутелостью».][370]
Подобная смена оценок в поэмах зависит от типично балаганной ситуации узнавания, «ночи ошибок», неожиданных встреч, чреватых конфликтами, стычек и потасовок. В карнавальную ночь все ведут себя эксцентрично, и обилие тумаков оказывается закономерной расплатой за атмосферу вольности и равенства. «Оставаясь в пределах иерархически-стабилизированного официального мира, – подчеркивал Бахтин, – человек не мог раскрыть своих новых сторон, не мог обновиться, в отношении его существуют неизменные дистанции сторон ‹…› ценностная, иерархическая перспектива мира остается неизменной. Необходимо выйти за пределы этой системы ‹…› праздничные фамильяризирующие формы и дают ‹…› это право взглянуть на мир вне этой признанной правды, вне священного; праздники освящают профанацию ‹…›»[371]
Важную роль в карнавально-балаганном мире играет профанация священного. Упразднение социальной иерархии и взаимопереход верха и низа касаются и религиозных символов в стихии карнавальной жизни. Два антагонистических образа – проститутки и Мадонны – взаимозаменяются и взаимодополняются. У Лермонтова в разных поэмах эти ситуации обыгрываются в плане освящения падшей женщины, ее возвышения до облика Мадонны, но без стигматов святости:
Она была похожа на портрет
Мадонны и мадонны Рафаэля ‹…›;
Лишь святости черты не выражали
(«Девятый час; уж темно…»).
Героиня «Гошпиталя» Мариса
Бледна и трепетна, как Ева,
Когда архангел Михаил
Ее из рая проводил[372];
Героиня «Сашки» Мавруша сравнивается с мадоннами на полотнах Гвидо Рени.[373] В этом пункте пересекаются культурно-исторические и психологические факты. «‹…› Первоначальное восприятие Мадонны оказывается приближенным к восприятию женщин свободного поведения: самоотдача без выбора, непреднамеренно и без обдумывания, в конце концов, означает самоотдачу исключительно из эротических побуждений. Женщины свободного поведения и женщины типа Мадонны, схожие не более чем намалеванная неумелым художником рожица и божественный праобраз, соприкасаются в крайнем. Это то, благодаря чему женщина вообще является женщиной: ее чрево как носитель плода и как снимаемое помещение для полового акта становится нарицательным понятием, символом той пассивности, которая делает ее в равной степени способной свести сексуальное до самого низменного и возвысить его до небесных пределов».[374]
Диада «мадонна – проститутка» заключает в себе большой смысл и с точки зрения индивидуального сознания самого Лермонтова. Как в его душевном мире совмещались эти два образа, а в поэзии несколько «Мадонн» – с героинями «фривольных» стихов и поэм? Это проблема номер один для всякого исследователя его творчества. Объяснить ее эволюцией Лермонтова от «скверной» юнкерской казармы к обретению религиозности в более поздний период жизни было бы верхом наивности. В этом проявилась психологическая закономерность: «Откровенно биологическое или грубое отношение к женщине порождает чрезмерно пренебрежительную оценку женского аспекта в бессознательном мужчины, в котором он с удовольствием принимает форму Софии и Девы».[375]
Эти два образа и являлись бессознательному поэта в форме сближения и противостояния в пору создания «юнкерских» стихов.
Еще одним важным доводом в пользу развиваемой гипотезы о сущности произведений юнкерского круга служит их тематическая близость к «Невскому проспекту» Н. В. Гоголя. Между ними имеется множество параллелей в системе образов, сюжетных ходах и отдельных сценах. Эта близость свидетельствует об общих тенденциях в развитии жанров и связи с реликтовыми формами карнавальной смеховой культуры. Как в «Петергофском празднике», так и в «Невском проспекте» описываются шествия праздной толпы, совпадающие тональностью и деталями. И у Гоголя, и у Лермонтова это не люди, а знаки и символы людей: бакенбарды, усы, шляпки, платья, платки у Гоголя, султаны, корсеты, гербы ливрей, ментики, сабли, алебарды у Лермонтова. Настроение площади у Лермонтова и Гоголя подается семантически близкими выражениями: