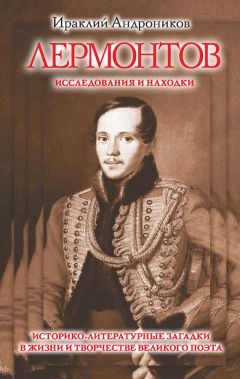Олег Егоров - М. Ю. Лермонтов как психологический тип
Ответы на данные вопросы, на наш взгляд, следует все-таки предварить анализом недоразумений, которые привели к табуированию «юнкерских поэм». Прежде всего необходимо объяснить, почему в эту компактную группу попали только пять произведений. Если их обособленность связывается с наличием в них непристойностей (ненормативная лексика, натуралистические подробности при описании половых сцен), то у Лермонтова имеется ряд произведений, где встречается и то, и другое: «Девятый час; уж темно; близ заставы…», «Он был в краю святом…», «Расписку просишь ты, гусар…», «Песня». Все они аккуратно перепечатывались в каждом новом собрании сочинений поэта. Что касается поэм «Монго» и «Сашка», то там непристойностей не меньше.
Вопрос может быть поставлен так, что в «юнкерских поэмах» непристойности переходят границы допустимого или терпимого в литературе. На это можно возразить лишь то, что похотливому воображению вообще нет границ, а переход количества в качество в данном случае вряд ли может оскорбить целомудренное чувство больше, чем оно покоробится от непристойностей «второй степени». В противном случае мы будем иметь дело просто с ханжеской моралью.
Но это все, как говорится, от лукавого. «Юнкерские произведения» и другие стихи Лермонтова данного круга находятся совершенно в иной художественно-исторической плоскости, чем та, в которой их принято было рассматривать. Девятнадцатый век в этом отношении еще заслуживает снисхождение за его простительное незнание. Но повторять расхожую фразу о порнографическом характере «юнкерских произведений» Лермонтова сегодня равноценно риску прослыть невеждой и тупицей.
Среди критиков «юнкерских произведений», впрочем, выделялись голоса, признававшие за ними определенные художественные достоинства. Первый биограф поэта А. П. Шан-Гирей еще в 1860 году включил отрывок из «Уланши» в свои воспоминания о Лермонтове как образчик его ранней поэзии. Лично знавший Лермонтова В. П. Бурнашев находил в «Уланше» «бездну чувства, гармонии, музыкальности, певучести, картинности и чего-то такого, что так и хватает за сердце».[354]
В этом отношении двадцатый век оказался не на высоте своего знания. Он уступил веку минувшему в эстетическом чувстве и понимании творческой природы этих произведений Лермонтова. «‹…› Лермонтов усиливался писать и „фривольные“ пьесы эротического содержания, в духе шалостей В. Л. Пушкина и самого Пушкина, – писал историк П. М. Бицилли, – и у него ничего не выходило, кроме циничного набора непристойных слов ‹…› ‹он проявил› неспособность ассимилировать себе „забавы“, которые тешили „предков“».[355] Поразительные по своей близорукости мысли в устах маститого историка культуры.
Дело в том, что Лермонтов в произведениях юнкерского круга вышел далеко не только за творческие пределы жанра «фривольной поэзии» Василия Львовича Пушкина, но и его племянника с его «Гавриилиадой». Произведения Лермонтова имеют совершенно иной смысл и связаны с принципиально иной литературной и культурной традицией.
Что касается «циничного набора непристойных слов», то у разных психологических типов они могут приобретать совершенно различное звучание, в том числе в рамках художественного сознания. Психолог В. Ф. Чиж исследовал данную проблему на примере психологической типологии Гоголя. «Гоголь, – писал ученый, – рассказывал „непечатные“ анекдоты с таким мастерством, с таким удовольствием, что, несомненно, его воображение было направлено в известную сторону: это не были шутки грубого чувственного человека, лишенного художественного чутья, – нет, это были именно художественные произведения ‹…›»[356]
В настоящей главе мы будем рассматривать весь круг произведений Лермонтова, объединенных одной темой, – круг, в который входят не только собственно произведения юнкерского периода. Все они имеют отношение к теме игры в жизни и творчестве Лермонтова и ее таких разновидностей, как маскарад и карнавал. Только с позиции «карнавального отелесения мира» (М. М. Бахтин) можно понять смысл и своеобразие этой группы произведений поэта.
Игра и ее разновидности (маскарад, карты, шахматы, детские игры) занимали исключительно важное место в жизни и творчестве Лермонтова и оказали решающее воздействие на жизненную драму поэта. Подробнее об игре речь пойдет в следующей главе. Здесь мы рассмотрим игру в одной из ее функциональных разновидностей у Лермонтова. Группа произведений юнкерского круга (так мы будем называть эти тематически близкие стихотворения и поэмы) принадлежит к реликтовым формам карнавальных жанров средневековой литературы и фольклора. Согласно М. М. Бахтину, в процессе разложения карнавала образовались две эпигонские линии – маскарадная и балаганная, а также ряд их разновидностей, связанных с площадными и рекреационными праздниками.[357]
В произведениях юнкерского круга (включая стихотворение 1830 года «Булевар») Лермонтов изображает, по выражению Бахтина, «карнавальное выведение человека из нормальной, обычной колеи жизни, из „своей среды“, потерю им своего иерархического места».[358] Герои этих произведений участвуют в празднике («Петергофский праздник»), праздно гуляют по городскому бульвару («Булевар»), предаются рекреационному веселью («Уланша», «Ода к нужнику»), попадают в историю, близкую к театральному представлению, с узнаванием, избиением и переодеванием («Гошпиталь»). При этом их поступки сопровождаются площадной бранью, нарушением социальной иерархии, фамильярностью и экстерриториальностью (за городом, на антресолях госпитального здания, в туалете, в городском парке), то есть в местах, далеких от их официально-служебного, учебного и семейного пребывания. На данное время герои освобождаются от всех норм, правил, распорядка официального мира и предаются безудержному и кощунственному веселью, которое отрицает (на данный период времени) все общепринятые этические и социально-иерархические порядки: совокупление барина с самой последней женщиной, слияние верха и низа, лица и зада, действие по принципу «все позволено» в пьяную (карнавальную) ночь. При этом происходят неожиданные встречи (мужика с барином на антресолях у старухи, пьяного гусара с непотребной женщиной), имеет место циничный нигилизм (отрицание всякой идеальности), нарушение запретов (курение в туалете школы), кощунства (смешение мадонны и проститутки). Короче говоря, налицо все признаки карнавализации в их сниженной бытовой форме, свойственной литературе нового времени.
Бахтин так определил карнавал как явление народной культуры: «Карнавал – это особая форма самой жизни, которой живут все в установленные карнавальные сроки ‹…› Жизнь людей ‹в это время› протекала в двух аспектах ‹…› в двух мирах и планах ‹…› Официальная жизнь ощущалась ‹…› на фоне карнавальной жизни как явь на фоне снов, дополнялась ею ‹…› Легализованные кощунства»[359]; «Эти обломки древней экстерриториальной площади со смеющимся народом в измененном, искаженном, извращенном виде переносятся в ‹современные› гостиные, мансарды поэтов и художников ‹…› на современную ночную улицу ‹…› в дортуары закрытых учебных заведений ‹…›»[360]
Цель подобных кощунств, брани, непристойностей – «развеять атмосферу мрачной и лживой серьезности, окружающей мир и все его явления, сделать так, чтобы мир выглядел по-иному – материальнее, ближе к человеку и его телу ‹…› чтобы и слово о нем звучало бы по-иному – фамильярно-весело и бесстрашно»; но «на фоне литературы нового времени ‹это› выглядит и странным и грубым»[361]. «‹…› Те же самые образы ‹…› воспринимаемые в системе иного мировоззрения, где положительный и отрицательный полюсы становления ‹…› разорваны и противопоставлены друг другу ‹…› становятся действительно грубым цинизмом, утрачивают ‹…› свою амбивалентность ‹…› Они фиксируют только отрицательный момент, причем приобретают ‹…› узко бытовой, однозначный смысл ‹…›»[362]
Столкнувшись с миром городской жизни, а потом и с тесным мирком закрытого учебного заведения с его жесткой регламентацией жизни, Лермонтов почувствовал узы, стесняющие его свободу, с одной стороны, и атмосферу ханжества, условностей общества спектакля – с другой. У него зародилось неискоренимое желание осмеять в сатире и даже избичевать все маскарадные фигуры городской площади. В автографе стихотворения «Булевар» поэт сделал характерную приписку: «В следующей сатире разругать всех ‹…› Под конец сказать, что ‹…› если б это перо в палку обратилось, а какое-нибудь божество новых времен приударило в них, оно – лучше».
Но и та сатира, которая содержалась в стихотворении «Булевар», бичевала этот «мир наоборот» не слабее менипповой сатиры. Лермонтов изобразил настоящую карнавальную площадь с ее героями-масками, скрывающими свою подлинную социальную сущность: «красотку в сорок лет», молодящегося похотливого «старика с рыжим париком», развратную княжну, имеющую на него свои виды, дряхлого аристократа с душой, ушедшей в ноги, и других персонажей «булеварного маскерада». Лермонтов, однако, показал здесь именно шествие масок. Он был еще далек от «балаганной» стихии площади, которая вырвется наружу в годы его учения в Школе. Надо было получить урок жизни в казарме, чтобы почувствовать разницу между невинной игрой «актеров» патриархальной Москвы и мертвыми куклами официального Петербурга. Лермонтовская муза, затянутая в мундир строгого каченного устава, как будто забыла язык любви, честолюбивых мечтаний, горьких сомнений и заговорила на диалекте гусарского застолья, ночных бдений в укромных окраинах города, площадной фамильярности народного гулянья. Начало было положено «юнкерской молитвой», в которой ее лирический герой пока скромно просит ослабить стеснительные оковы «фрунта и рядов»: тесной куртки, маршировки, пунктуальности.