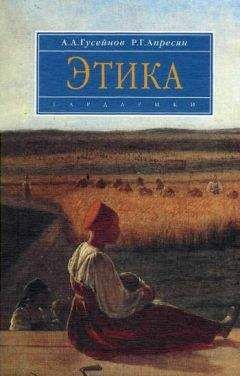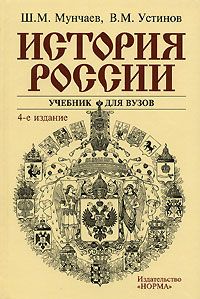Григорий Гуковский - "Слово о полку Игореве"
Среди научных работ Тредиаковского есть целая группа таких, которые не поглощаются даже делом Ломоносова и являются для половины XVIII века лучшими в своем роде – это работы о литературе. Их Пушкин имеет и виду в своем известном суждении: «Тредиаковский – один, понимающий свое дело» (1835). Пушкин прав: трактаты эти – одна из вершин русской литературной науки XVIII века, такой же памятник русской научной мысли того времени, как труды Ломоносова по грамматике. В науке о стихе и о жанрах поэзии Тредиаковский знает и понимает больше своих современников.
Основной стиховедческий трактат Тредиаковского – не тот, уже знакомый нам «Краткий и новый способ» 1735 г., который сыграл когда-то историческую роль провозглашением тонического принципа, а трактат, появившийся под тем же заглавием в собрании сочинений 1752 г., но представляющий на деле совершенно новое произведение, посвященное всестороннему описанию тонического стихосложения, каким оно к 1750-м годам сложилось совокупными трудами Ломоносова, Сумарокова и Тредиаковского самого. Этот второй трактат не сыграл уже прямой литературной роли. Тоника и без него создана была прочно, но описание этой тонической системы у Тредиаковского так полно, последовательно и ясно, что эта работа для всего XVIII века осталась лучшим учебником стихосложения.
В 1750-е годы Тредиаковский особенно напряженно» работает над теорией и историей литературы (это как раз годы работы Ломоносова над грамматикой). В том же собрании сочинений 1752 г. напечатано «Мнение о начале поэзии», совпадающее с взглядами, высказанными несколько позже в трактате «О древнем, среднем и новом стихотворении российском» (1755). Концепция вкратце такова. Надо различать вопрос о происхождении поэзии от вопроса о происхождении стиха; происхождение поэзии двойственное: вдохнул ее в сердца людей бог, но этим не решается еще вопрос, «кто первый из человеков ощутил в себе такую способность»; это был библейский пастух Иувал, изобретатель цевницы и гуслей. С этим известием библии согласуется и рассуждение: поэзия была нужна в пастушеском быту и естественно из этого быта родилась. Но вот начались большие общества, города и «разность как преимущества, так и достоинств и состояний», выделились правительства и жрецы; жрецы одеждой, образом жизни, авторитетом должны были отличаться от других; чтобы действовать на людей, они должны были изобрести особую, повышенно-авторитетную форму речи; такую форму могла дать только «определенная мера», соответствующая потребности человеческого духа в «равномерности» и клавшая заодно границу между велениями и наставлениями жрецов и обычной речью. Если освободить эти рассуждения от обязательных ссылок на библию и бога, остается концепция, поражающая своим реалистическим характером и историчностью: поэзия родилась в доклассовом пастушеском обществе, а стих возник позже, из условий разделения на классы и из потребности в средствах воздействия на управляемых; слияние творения пастухов с творением жрецов дало стихотворную поэзию. Странно было бы критиковать эту концепцию с точки зрения науки XX века. Тредиаковский не догадывается, например, о связи стиха с ритмом трудового процесса. Но ищет он решение на совершенно правильном пути: поэзия и стих родились, потому что были нужны для выполнения общественной функции. Неверный метод догадки, как, вероятно, вещи должны были возникнуть, был общим всему рационалистическому XVIII веку (включая и Руссо). Теория Тредиаковского исторична в неизбежных для его эпохи формах рационализма. Иногда он предчувствует истину (например магическую роль стиха).
В применении к происхождению поэзии и стиха у славян теория Тредиаковского остается та же: «Наши поганские (языческие) жрецы были первыми у нас стихотворцами»; их стихи до нас не дошли, но «по мужицким нашим песням видно (будто бы), что это были стихи тонические». Здесь, конечно, грубая ошибка; стих народной русской поэзии остался Тредиаковским не понят; он насильственно подгоняет несколько более или менее подходящих стихов под ямбы, хореи с дактилями и т.п., например, объясняет ямбом с анапестом стихи:
Не шуми, мати зеленая дубравушка,
Не мешай цвести лазореву цвету.
Впрочем, до основополагающих работ XIX века ни один теоретик не понял правильно стих русской народной поэзии. Замечательно для половины XVIII века внимание и уважение Тредиаковского к этой поэзии. Здесь уже предчувствуется близкая эпоха фольклористики 1760– 1770-х годов.
По-видимому, экскурс о славянской поэзии подвел Тредиаковского к мысли о той его работе, которая сделала его первым историком нашей поэзии и вообще является самым ценным трудом во всем его научном наследии; это через три года написанный трактат «О древнем, среднем и новом стихотворении (стихосложении) российском» (1755), первая в русской науке попытка обозреть все развитие русской поэзии, от древнейших времен до современности, и дать ее историю, рациональную периодизацию. Под «древним» Тредиаковский разумеет стихосложение не дошедшей до нас поэзии «жрецов» (через которую, очевидно, думает он, древнейшая поэзия славян связывается с древнейшей, тоже жреческой, поэзией всех народов).
Под «средним» периодом Тредиаковский разумеет силлабическое стихосложение, историю которого, от первых русских виршей в Острожской библии 1581 г. до Кантемира и до собственных произведений своей молодости, он излагает полно, со знанием дела, с такой напряженностью научной мысли, что лучшей истории русской силлабики у нас, собственно, нет и сейчас. Единственная существенная ошибка: начало виршей на Москве он связывает с приездом Симеона Полоцкого; ему остались неизвестны великорусского происхождения вирши еще первой половины XVII века.
Во всем обзоре заметны две тенденции: 1) подчеркнуть роль поэтов из духовенства в создании стихотворной культуры этого периода, т.е. в 1755 г., когда начинает обозначаться преобладание поэтов-дворян, напомнить заслуги ученых плебеев; 2) подчеркнуть таланты силлабиков и высокие достоинства их поэзии, несмотря на употребление несвойственного русскому языку стиха. Так, процитировав отрывок из поэмы Буслаева «На смерть баронессы Строгановой» (1734), он прибавляет: «Что выше сего выговорить возможно? Что сладоноснее и вымышленнее (богаче вымыслом)? Если бы в сих стихах падение было стоп,... то что могло быть и глаже и плавнее?» Очевидно намерение Тредиаковского сохранить Симеона и других силлабиков как важную эпоху в истории нашей поэзии, как крупных поэтов, восстановить их достоинства против недооценки неофитов тонического стиха (преимущественно дворян). Тредиаковский чувствует себя исторически ближе к ним, чем к поэтам 1750-х годов; мы уже знаем, что так оно и было на самом деле.
Под «новым» стихосложением разумеет Тредиаковский то, которое он ввел в 1735 г., т.е. тоническое. Эта часть трактата преследует одну явную цель: напомнить новому литературному поколению, что создатель тонического стихосложения – он, Тредиаковский, а не кто-либо другой. Так как это лишь вполовину верно, то третья часть трактата лишена исторической постановки вопроса. Между тем за 20 лет (1735–1755) тоническая система имела уже свою историю; у Тредиаковского ее нет. В целом трактат представляет, как единовременная с ним «Российская грамматика» Ломоносова, одну из вершин научной мысли середины XVIII века. Впервые русский ученый дал целую концепцию развития поэзии от древнейших времен до современности. Несомненные в мышлении Тредиаковского элементы историзма проявились здесь сильнее, чем во всех других научных его работах.
Особую группу составляют работы Тредиаковского об отдельных жанрах, например об оде, или большой трактат о героической поэме, приложенный в виде «предызъяснения» к «Тилемахиде» (1766). Сюда можно условно отнести перевод в стихах «Поэтического искусства» Буало и перевод в прозе «Послания к Пизонам» Горация; все эти работы богаты материалом, обнаруживают обычное у Тредиаковского глубокое знание обеих античных и нескольких новоевропейских литератур, а также типичное для него стремление восстановить историю жанра, чтобы на основании этой истории построить правильное понимание его.
Филология Тредиаковского одной стороной касается пиитики XVII века, архаическое развитие которой она, собственно, и представляет, но растет она, параллельно веку, в направлении вовсе не архаическом; последнее слово Тредиаковского представляет как бы канун великого научного переворота, совершенного Лессингом.
Нельзя обойти молчанием и философский труд Тредиаковского, составляющий компилятивный курс философии и морали по источникам, устаревшим для середины XVIII века, но все же полезным в качестве подведения некоторых итогов европейской мысли прошлого на русском языке. Не имея возможности напечатать этот труд отдельно, Тредиаковский прибег к уловке. Он поместил его по частям в виде обширных предисловий от переводчика в ряде томов переведенной им истории Роллена.