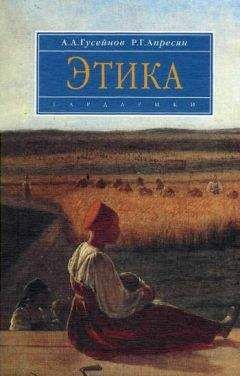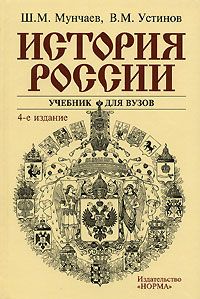Григорий Гуковский - "Слово о полку Игореве"
Это была позиция затрудненной стихотворной речи. Уже рано, по-видимому, Тредиаковский стал считать латинский синтаксис идеальной нормой для всякой синтаксически упорядоченной речи. С 1730-х годов, со времени примерно своей реформы стихосложения, он старается воссоздать свободную латинскую расстановку слов, которую великие римские поэты превратили когда-то в высоко совершенное средство для выражения стилистических оттенков. Тредиаковский сознательно стремится эту латинскую систему насильственно перенести в русский стих.
В «Эпистоле к Аполлину» (1735) таких насильственно латинизированных стихов так много, что случайностью это объяснить нельзя:
Был Виргиния Скарон осмеять шутливый,
т.е. Скарон был достаточно остроумен, чтобы осмеять (пародировать) Виргилия.
Счастлив о! де-ля-Фонтен басен был в прилогё...
Особенно пленяло Тредиаковского свободное место междометия в латинской фразе. В результате «ах» или «о» стоят у него (сотни раз) там, где меньше всего ожидаешь восклицательного перерыва фразы...
Непрестанною любви мучит ах! Бедою...
...Илидары нет уж ах! нет уж предрагия...
...Так о! плененным сей весьма есть склонен бог...
Также на латинский лад Тредиаковский передвигает во всей фразе союз «и» («мельник и сказал...»); эта странность еще усилена употреблением союза «а» в смысле «и» (по-видимому, полонизм, воспринятый через бурсу):
Некогда отстал паук от трудов и дела,
А собрался, вдаль пошел, мысль куда велела.
Еще более затемняется смысл беспримерной в русской поэзии свободой инверсии. Именно благодаря непрерывным инверсиям стихи Тредиаковского часто нуждаются в переводе на обычную конструкцию; без перевода они непонятны. Так, например, не сразу понятно начало такой важной программной пьесы, как «Эпистола к Аполлину»:
Девяти Парнасских сестр купно Геликона,
О начальник Аполлин, и Пермесска звона!
Посылаю ти сию, росска поэзия,
Кланяяся до земли, должно что, самыя.
Это значит: «о, Аполлон, начальник девяти парнасских сестер, также Геликона и пермесского звона! Я, русская поэзия, посылаю тебе сию (эпистолу), кланяясь (при этом), как и должно, досамой земли».
Чтобы понять литературный смысл такой сплошной латинизации синтаксиса русской стихотворной речи, надо заметить, прежде всего, одно очень важное обстоятельство: оды (четырехстопным ямбом) и особенно александрийские стихи, т.е. стихи ломоносовских метров, Тредиаковский пишет не «по Тредиаковскому», а более или менее общим для 1750-х годов стилем, конечно, хуже и несколько темнее, чем Ломоносов и Сумароков, но приблизительно так же, как написаны их второстепенные стихи. Но совсем иначе, сплошь «по Тредиаковскому», написаны все стихи его собственного метра, когда-то им изобретенного, т.е. семистопного хорея. Так, например, басни, переведенные им, построены попеременно то александрийским стихом, то «своим»; и вот довольно пробежать их, чтобы сразу увидеть различие двух стилей. Вот начало басни 33-й:
Сек некто при реке дрова на быт домовый,
Бесщадно опустил топор там в воду новый.
Не зная, что чинить в тот горестнейший час,
Лил слезы по лицу горючие из глаз.
Нечаянно тогда Меркурий сам явился;
Узнавши случай слез, над бедным умилился,
Затем нырнул он в глубь, а (и) вынырнув из той,
Держал в руке топор, но только золотой...
Конечно, Ломоносов изложил бы этот эпизод ярче, но стихи Тредиаковского явно стоят на уровне средней стихотворной и языковой культуры 1750-х годов. Такими же обычными стихами написана почти вся трагедия «Деидамия» (1750). Совсем другой стих, собственный, свой, а потому и изощренно темный, мы встречаем в ранних стихах силлабического периода, во всех стихах хореических и особенно во всем написанном своим стихом; например, начало басни 28-й:
Совокупно двое ехали на корабле,
Меж собою были в крайнейшем недружбы зле;
Так один из них сидел на носу за спором,
А другой тут место взял на корме с прибором.
Вот пресильна буря стала море волновать
И корабль валами всеконечно разбивать...
Сразу перед нами инверсии («в недружбы зле»), слова-затычки (так, тут), ненужные для действия и неоправданные в дальнейшем детали (один «за спором», а другой «с прибором»), канцелярские славянизмы («всеконечно»), странные сочетания слов («зло недружбы») и т.д. Вывод может быть только один: так как Тредиаковский умеет писать и нормальной для середины XVIII века стихотворной речью, если он в ряде случаев и особенно в любимых им размерах пишет иначе, то это не каприз, не косноязычие, как черта индивидуальная, не стилистическая бездарность, а осуществление своей стилистической нормы. Норма эта была для середины XVIII века, для ломоносовской эпохи, архаистичной, потому что она возникла еще в прошлом веке в богословской школе. Ее сложили латинское школярство, приказная канцелярская витиеватость и речевые навыки духовенства, западнорусского и великорусского. Именно в этой среде, из смешения грубого просторечия обиходной речи с церковнославянским языком и славянизированным языком бумаг канцелярии, в переработке этого многосоставного жаргона латинской грамматикой и Цицероном школы сложилась особая языковая культура. Речью «хитрой», запутанной, витиеватой, предпочитающей окольные пути выражения написаны все панегирики, школьные драмы и вообще стихотворные произведения, вышедшие из Киевской, Московской, Харьковской и других духовных школ, речью, которую мы для краткости назовем схоластической не только потому, что она создалась в школе, но и потому, что она была стилистическим соответствием схоластическим методам мысли и преподавания. В послепетровскую эпоху вся эта столетняя культура не только не умерла, но именно в Тредиаковском нашла одно из последних и самое яркое выражение. Схоластический стих, конечно, был уже архаистичен в ломоносовские годы, и именно этим объясняется борьба, которую Ломоносов и Сумароков вели против Тредиаковского; но архаистичность не есть незакономерность. Напротив, вооруженный новоевропейской наукой, от старой риторики перейдя к филологии, обогащенный лучшим знанием и античности, и новых литератур, схоластический стиль пережил в поэзии Тредиаковского свое европеизированное возрождение. Вот почему место Тредиаковского в истории русской поэзии, при своей скромности, аналогично уже известной нам его роли в истории стихосложения; как новый стих Тредиаковского был не разрывом с силлабической системой, а ее реформой, так поэзия Тредиаковского была расширенным и реформированным эпилогом к истории целого периода истории поэзии, периода в основном схоластического.
Замечательно, что в последний период своей деятельности сам Тредиаковский настолько смягчил особенности своего латино-школярского синтаксиса, что гексаметры «Тилемахиды» сравнительно ближе к нормальному синтаксису русской стихотворной речи. Стихов решительно трудных для понимания здесь почти нет, зато на каждом шагу попадаются прекрасные гексаметры с ясной, почти так же ясной, как в «Одиссее» Жуковского, конструкцией:
...То на хребет мы взбегаем волн, то низводимся в бездну
...Наши Киприйцы все, как жены, рыдали унывши...
...Только и слышал от них я часто жалостны вопли,
Только что вздохи одни по роскошной жизни и неге...
Объяснить это можно тем, что в «Тилемахиде» старинные латинские симпатии Тредиаковского-стилиста из школярской стадии своего развития вошли в новую, обращенную непосредственно к античности, сообразно общему стремлению русской (и немецкой) поэзии второй половины XVIII века создать свою национальную форму античного стиля.
Изменилась в «Тилемахиде» и норма словоупотребления. У Тредиаковского 1730– 1740 годов эта норма была чем-то в своем роде небывалым в русской поэзии по безграничной свободе совмещения церковнославянизмов (вплоть до самых редких) и разговорного просторечия (вплоть до вульгаризмов). Так было в его прозе, так было и в стихах, например в ранних, еще силлабических:
Бегут к нам из всей мочи Сатурновы веки.
Репутации Тредиаковского эта особенность повредила, быть может, более всего в глазах современников и потомства. В одном стихотворении среднего периода, в оде «Вешнее тепло» (1756), славянизация речи доходит до того, что соловей назван «славий», коростель «крастель», ветви «хврастий» (краткогласная форма к слову «хворост»), стихи написаны почти сплошь языком псалмов:
Исшел и пастырь в злачны дуги
Из хижны, где был чадный мрак;
Сел каждый близ своей подруги,
Осклабленный склонив к ней зрак...
...Не вся тут узорочность вешня:
В весне добр тысящи суть вдруг...
(Весна обладает одновременно тысячами разных
наслаждений)
...Угодность сладостей нам внешня
Различествует тмами вдруг...