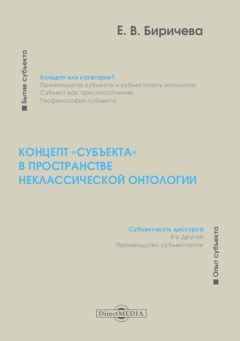Елена Петровская - Безымянные сообщества
Это довольно беглое изложение позволяет нам подойти к событийности с новых позиций. Событие не имеет ни малейшей временной привязки. Это «действие, само себя отдающее»[297] (разъяснение, которое мы находим в рукописях Канта), и как таковое оно не может не «распространяться» в трех направлениях — прошлого, настоящего и будущего (Begebenheit прямо определяется как «signum rememorativum, demonstrativum, prognosticon»[298]). В качестве признака идеи — идеи свободной причинности — оно отсылает одновременно к опыту и его «потустороннему»: как мы помним, Begebenheit составляет «как бы изображение» для целого ряда идей. И это осуществляется с помощью приостановленной всеобщности чувства возвышенного, что само по себе может расцениваться как потребность в сообществе. Говоря проще, событие может произойти в любой момент, и наш доступ к нему опосредован одними лишь неполными и даже ложными изображениями (достаточно упомянуть, что Французская революция, как и возвышенное в природе, бесформенна). Однако только они в состоянии удерживать следы событий и, возможно, даже их предвосхищать. А это возвращает нас к фотографии и, в более общем плане, к особой природе современных визуальных искусств.
Эти различные темы замечательно соединены вместе в ремарках Жака Деррида, сделанных по поводу одного документального фильма. В интервью журналу «Cahiers du cinéma» он размышляет над тем, как события Шоа представлены в одноименном девятичасовом фильме Клода Ланцмана. Ничего от самих событий в фильме не найти. Вместо этого он состоит из свидетельств тех, кто прошел через концентрационные лагеря и выжил, в первую очередь самих пострадавших. То, что они вспоминают, действительно непредставимо. Но именно потому, что ни одного изображения событий в фильме нет, зритель и может поставить себя в отношение к Шоа. Другие документальные фильмы, показывающие истребление, предполагают повторение этих сцен при каждом новом просмотре и поэтому удерживают нас на расстоянии от данного события. Для Деррида Шоа «должно в одно и то же время оставаться в пределах „это случилось“ и невозможности того, что „это“ могло случиться и стать изобразимым»[299]. Конечно, это случай совершенно особый. Однако событие всегда сингулярно и, стало быть, не может повториться. Изображение сингулярного может лишь поставить к нему в отношение, и в этом оно будет не более чем «как бы изображением». (Знаменательно, что, рассуждая о сущности кино, Деррида использует по сути дела тот же термин — «quasi-présentation». И речь, и образы суть «как бы изображения» непосредственности мира, чье прошлое абсолютным образом отсутствует, являясь «неизобразимым в своем живом присутствии»[300].)
На этом этапе мне хотелось бы привести два ярких примера из области фотографии, которые могли бы послужить иллюстрациями к заявленному мною тезису. Первый связан с Борисом Михайловым, знаменитым украинским фотографом, который в основном живет сейчас в Берлине. Тематически Михайлов известен своими фотографическими сериями, изображающими позднее советское и раннее постсоветское время. Несмотря на жесткость фотографий, сделанных им в 1990-е годы, похоже, что ничего зрелищного или по-настоящему масштабного в другие десятилетия не происходит. Это особенно верно в отношении так называемого периода застоя — Советский Союз семидесятых и восьмидесятых поистине бессобытиен. Михайловские серии этого времени подпадают под определение концептуального искусства. Такова его классическая работа «Неоконченная диссертация» (1984–1985) и даже более ранние наложения, которые он теперь предпочитает называть «Вчерашний бутерброд»[301]. Вмешательство фотографа в текстуру образов неоспоримо, будь то постановка как изобразительный прием или манипуляции с самой фотопленкой. Вместе с тем такая недостоверность не опровергает историческую правду — совсем наоборот. То, что Михайлову удается столь успешно передать, есть неизобразимая сторона советского опыта, остающегося по существу невидимым. В другом месте я обсуждала это в терминах подразумеваемого референта, под чем я понимаю сплетение аффективных и исторических обстоятельств, при котором преходящий коллектив «узнает» себя в фотографии, одновременно позволяя ей прорваться в область видимого[302]. Тогда-то фотография и проявляется по-настоящему (в химическом, но также и в историческом смысле). Иными словами, подразумеваемый референт выступает тем, что делает фотографию возможной, причем именно в форме документа. Ибо передаваемое ею — не столько набор видимых, легко атрибутируемых знаков, сколько аффективный опыт преходящего, поколенчески определяемого коллектива. Поколения в историю не попадают, они оседают у ее краев.
Жизнь, наблюдаемая Михайловым, бесформенна, более того, она до невозможности банальна. И тем не менее она взывает к сообществу — почти так же, как это было с Великой французской революцией по Канту. Только это новое обещание сообщества лишено возвышенных тонов. Выскажу предположение о том, что фотосерии Михайлова — это «как бы изображения» субъективности, имеющей отношение к самому определению переживаемой нами эпохи. «Все стало серым, — гласит одна из строк, открывающих „Неоконченную диссертацию“, — мечта[,] превратившаяся в китч»[303]. И советская повседневная реальность, и фотографическая практика каждая по-своему стремятся к заведомо частному[304]. Но выходит так, что частное сохраняется и становится значимым посредством одного банального. В этом отношении последнее, вовсе не являясь эстетической категорией, образует аффективный горизонт, особую форму разделения, объединяющего всех, кто живет сегодня в постиндустриальном мире. Фотографии Михайлова функционируют в качестве образов памяти. Их содержание настолько неясно и размыто, что становится абсурдным, в точности как наложения из серии «Вчерашний бутерброд». В то же время это «тотальные фотографии», по словам Кабакова, то есть их эффект — их правда — в высшей степени неоспоримы[305]. Память, воскрешаемая так Михайловым, не индивидуальна. Его фотографии напоминают зрителям о том, чего они могут даже не знать и не помнить. Они показывают, в действительности этого не делая, некоторую вовлеченность, то, что «моя» память или опыт индивидуальны лишь в той мере, в какой уже разделяются другими. Зрителем этих фотографий является, следовательно, некое «мы» (весьма далекое от идеологической конструкции).
Другой пример, который мне хотелось бы привести, — это Андреас Гурский. Я не случайно ставлю рядом этих двух художников. Оба — замечательные фотографы, заслуженно пользующиеся международным признанием. И оба — незаурядные документалисты в том смысле, который мне хотелось бы закрепить за этим словом. Однако различия между ними очевидны, и в свете таковых я позволю себе сделать несколько замечаний общего характера. Гурский — это символ совершенно новой художественной практики: речь идет о цифровой фотографии. Он хорошо обучен техникам монтажа. Фактически он работает с отдельными элементами, выбирая фрагмент изображения и воспроизводя его без швов по всей поверхности своих объемных композиций. В последнее время он стал снимать обширные скопления людей, будь то поклонники рок-музыки, собирающиеся на концерты на открытом воздухе, брокеры на бирже или бесконечные гимнасты, образующие своими телами тот или иной абстрактный узор. Это привело к тому, что ряд критиков начал описывать его работы в терминах орнамента массы, словосочетания, придуманного Зигфридом Кракауэром в конце 1920-х годов. Говоря обобщенно, масса, не имея собственного механизма идентификации, узнает себя в орнаменте, который складывается из ее работающих или «отдыхающих» тел, — аллюзия на конвейерное производство и гимнастическую дисциплину. Вот почему, считает Кракауэр, о месте эпохи в историческом процессе куда больше свидетельствуют ее «незаметные поверхностные проявления», чем «суждения этой эпохи о самой себе»[306]. Однако фотографии Гурского демонстрируют другое. Своей монтажной техникой и небывалой точкой зрения он создает изображение нового типа, из которого разом исключены и зритель, и фотограф.
Зритель не в силах соотнести себя с фотографиями Гурского — ему никогда не занять предложенную точку зрения[307]. Мы обнаруживаем нечто вроде подсказки в словах самого фотографа, брошенных им мимоходом: «Меня интересуют глобальные перспективы (globale Perspektiven)…»[308] Конечно, такие перспективы не могут ни изображаться, ни схватываться невооруженным глазом. Их можно только сконструировать, синтезировать искусственным путем. И снова эта «неистинность» говорит нам больше об истине глобализации, чем любое прямое изображение, передающее ее отдельные проявления или неожиданные следствия. В отличие от массового орнамента, глобализация не есть поверхностное явление par excellence. На самом деле она остается неизобразимой, и это отражено во множестве историй о заговоре, которые могут рассматриваться как искаженные попытки символически справиться с тем, что целиком и полностью вне нашей досягаемости (воображение терпит неудачу перед масштабом и эффектами глобализации)[309]. Создавая отчуждающую и нечеловеческую перспективу, Гурский выступает настоящим документалистом. К тому же он производит новый тип изображения, имеющий мало общего с «классической» (нецифровой) фотографией. Если работы Михайлова подчеркнуто горизонтальны: они основаны на отношении между изображением, фотографом и зрителем, — то панно Гурского вертикальны в том смысле, что не предполагают никакого отношения вообще. И именно подобный переход таит в себе возможность неразгаданных событий.