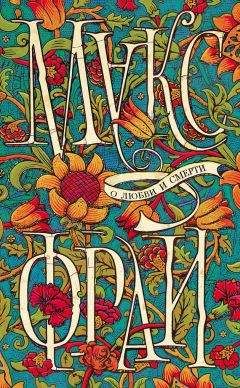Валерий Мильдон - Санскрит во льдах, или возвращение из Офира
Юркевич писал:
«В самой душе есть нечто задушевное, есть некая глубокая существенность, которая никогда не исчерпывается явлениями мышления». «Совершенство мышления не обозначает всех совершенств человеческого духа». «Наши мысли, слова и дела суть первоначально не образы внешних вещей, а образы или выражения общего чувства души, порождения нашего сердечного настроения»[43].
В таком случае всякая попытка объявить доводы разума основанием, непременным условием каких‑либо перемен в существовании людей (как бы ни оценивать эти перемены) является ошибочной, ибо учитывает одну сторону человеческой натуры, не берет в соображение другой (других), поступая, кстати, вопреки собственной разумности, требующей учитывать явление целиком. Поэтому таковая разумность утопична: намерены создать порядок, которого не может быть, и организовать людей, которых не бывает. Эти взгляды П. Д. Юркевич нашел в «Антропологии» Чернышевского.
Статья Юркевича названа «Из науки о человеческом духе». Свой основной принцип автор определил так: индивидуальное начало «дает душевным явлениям какое‑нибудь особое направление, которого мы вовсе не ожидаем на основании общих законов душевной жизни»[44].
Памятные слова, свидетельствующие, что в отечественной мысли вырабатывался гуманитарный взгляд: человек представал явлением сложным, не помещающимся в сколь угодно широкие рациональные границы. Возле сочинения Юркевича можно поставить «Записки из подполья» Достоевского — повод говорить о русской гуманитарной школе, хотя преобладала все же не она, а противоположная, утопическая, основанная на «примитивном человеке». Н. Г. Чернышевский был ярким примером последнего отношения. Хотя бытует мнение, что И. С. Тургенев в Базарове взял многое от М. Бакунина, но структура мысли, «антропология», безусловно, от Чернышевского, пускай создатель «Отцов и детей» не имел этого в виду.
Историю русской мысли можно рассматривать как своеобразную Историю борьбы с утопией, причем исторически утопия всегда побеждала, примитивная оценка человека брала верх, становилась дви — жущим мотивом социальных трансформаций. И это несмотря на то, что мысль о человеке развивалась. Но слишком велик был разрыв между ней и той массой народа, которая должна была — в опосредованных формах — усваивать эти гуманитарные идеи. В исторических ситуациях выбора всегда предпочитался «антропологический принцип», в отличие от Запада, где после всей крови, несчастий, кошмаров установилась‑таки, надо полагать, гуманитарная антропология — осознавание человека первостепенной, единственной ценностью бытия.
П. Д. Юркевич цитирует Н. Г. Чернышевского:
«Науки (естественные. — В. М.) доказывают, что никакого дуализма в человеке не видно, а философия прибавляет, что если бы человек имел, кроме реальной своей натуры, другую натуру, то эта другая натура непременно обнаружилась бы в чем‑нибудь, и так как она не обнаруживается ни в чем… то другой натуры в нем нет».
«Этот текст, — комментирует Юркевич, — очень определенно показывает, что для его сочинителя нравственные или философские науки суть только другое название для наук естественных…»[45].
Спустя два года именно так, «в духе Чернышевского», заговорит Базаров: «Человек та же лягушка, только на двух ногах», «нравственные науки — разновидность естественных».
Цитированный Юркевичем отрывок свидетельствует не только о естественно — научном подходе к явлениям, выходящим за рамки естественных наук. Чернышевский пишет о двух натурах, воображая, будто человеческая природа составлена из элементов: вот один, вот другой; если какой‑то из них не проявился убедительно для науки, его нет. И дело не в том, что наука могла оплошать, а в том, что человек не состоит из, он единство, целое, обладающее противоречивыми свойствами.
Сложной (а не элементарной) противоречивости не признает Чернышевский — это не совпадает с мнениями, которые он выработал (даже не важно сейчас, примитивны они или сложны). Собственная мысль дороже реальности, идея человека («антропология») дороже человека («гуманитарности»).
«Предполагается, например, — цитирует Юркевич, — головоломный вопрос: доброе или злое существо человек? Множество людей потеют над разрешением этого вопроса… Но при первом приложении научного анализа вся штука оказывается простой до крайности»[46].
«Простая до крайности» — замечательно полная характеристика Чернышевского. В «Что делать?» все проблемы выдуманных из головы персонажей решаются до крайности просто — стоит лишь обдумать. Равно упрощены писателем и социальные отношения, а отсюда шаг до большевизма, теоретики которого упростили уже упрощенное, и поскольку реальная жизнь не соответствовала выдумке, под нее начали подгонять жизнь, что на практике вылилось в массовое уничтожение людей. «Уничтожение» живого практиковал уже Чернышевский, пока на персонажах, в теории. Свою рецензию Юркевич проницательно заканчивает:
«Статьи, которые мы рассмотрели, не только не изъясняют психических явлений, но сами представляют психическое явление… Посмотрите, в самом деле, на их диктаторский тон, на всезнание сочинителя, на его презрение к людям, которые искренно признаются в затруднениях, связанных со многими психологическими вопросами…»[47].
Диктаторский тон! А какой тон будет у того, кто, упростив жизнь человека и общества чуть ли не до клеточного уровня, видит, что жизнь не вся на этом уровне? Надо ее принудить к месту, которое ей отведено соображениями мыслителя. От логического принуждения рукой подать до физического — динамика русской литературной утопии, которая, в XX столетии угадав угрозу, ответила на нее антиутопическим пафосом. Об этом ниже.
Еще одна черта утопического духа — враждебность творчеству. Это явилось главной, я полагаю, причиной, помешавшей Гоголю дописать «Мертвые души». Он, создатель русской антропологической утопии (западноевропейская и русская литературная традиция того времени дала преимущественно утопию социологическую), увлекся идеей — переменить человека, чтобы через человека (образом которого был Чичиков, должный преобразиться во 2–м и 3–м томах романа) изменить мир. Такой взгляд я и называю антропологической утопией, ибо, несмотря на связи, протянувшиеся между человеком и миром материальных стихий, есть непереходимая грань, отделяющая их, и потому намерения повлиять на мир, добившись перемен в человеке, мне кажутся обреченными: косные стихии инертного вещества не могут измениться, человек лишь погубит себя в достижении этой цели. Переходя названную грань, он становится ординарным фрагментом органической материи и перестает быть собой — таков мир 1–го тома «Мертвых душ». Вернуться из этого мира едва ли вероятно, во всяком случае, Гоголь не смог вернуть Чичикова, и дело, скорее всего, не в творческом бессилии писателя — косный мир не преобразуем, Гоголь взялся за обреченное дело.
Любая утопия, если судить об этом на основании накопленного к концу XX столетия, включает, независимо от воли ее творца, человека в порядок органического мира, тогда как этому порядку человек противостоит. Не случайное дело — многие утопии ведут речь о переделке человека в качестве условия преобразования мира, но, кажется, ни одна Не предлагает, оставив в покое материальное существование, задуматься над необходимостью и возможностью изменить условия нематериального бытия — принять некий другой взгляд на мир.
Утопии, признавая наличное устройство жизни негодным (иначе не было б утопии), предлагают изменить негодное, но это едва ли не то же самое, что оставить его без перемен, так как негодное меняется теми же средствами, по тому же плану, которые привели к этому негодному.
Гоголь надеялся, что, изменив литературного героя (Чичикова), он добьется перемены человека, вслед за чем изменится мир. Чернышевский же полагал, что надо изменить устройство мира, тогда и человек станет другим — два типа русской литературной утопии. Привлекательнее гоголевский, однако столь же фиктивен, как и тип Чернышевского, хотя он‑то и оказался реализованным. Его легче понять, он проще и потому кажется яснее, ибо все сложное, неясное в нем попросту не отображено.
Русскому утопическому сознанию свойственно гипертрофированное несогласие с окружающим порядком, проявляющееся, как ни странно, в такой реальной, а не книжной черте, как долготерпение. Терпят не оттого, что терпеливы, а оттого, что дурной мир воспринимается навеки данным, неизменным, — что же остается? Когда же терпения не хватает, народ взрывается дикими вспышками — оборотная сторона терпения. Этот крайний протест, вплоть до «мирового пожара», «мировой революции», связан, по — моему, с тем, что зло окружающего воображается настолько укорененным, что нет ничего в мире, достойного сожаления. Всему пропадать! Некое грядущее кажется ценностью не сравнимой ни с чем, а на самом деле даже не оно, а нужны попросту выход накопившемуся, освобождение психологических резервуаров для нового запаса долготерпеливости. Утопия с особой наглядностью выразила эту стихийную безжалостность ко всем формам сиюминутной жизни.