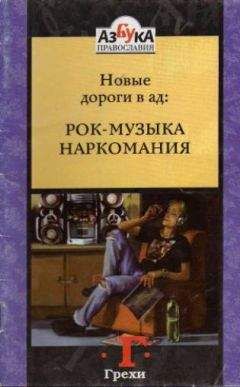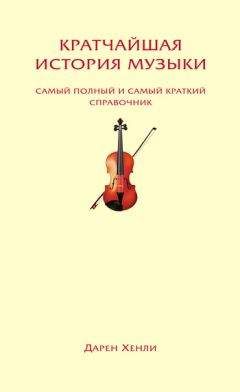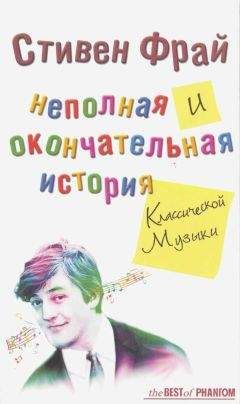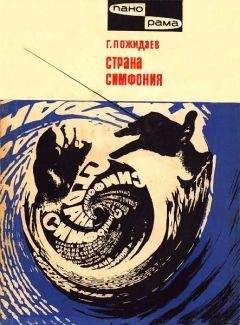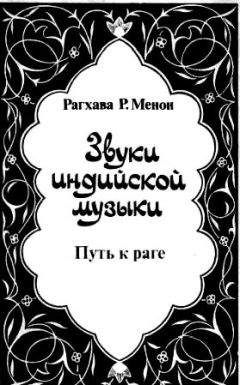Лев Клейн - Гармонии эпох. Антропология музыки
Леонард Бернстайн, американский дирижер и композитор, считал, что без тональности музыки нет и разрушение тональности гибельно.
Бернстайн делает оговорку:
«Я могу допустить, что когда-нибудь будет существовать музыка, напрочь оторванная от тональности. Я не слышу у себя в голове этой музыки, но готов представить себе такую возможность. Но это «когда-нибудь» наступит тогда, когда произойдут фундаменальные изменения в наших физических законах, быть может, тогда, когда человек оторвется от этой планеты» (Там же, 60).
В лучших произведениях Стравинского, Шёнберга и Веберна он улавливает всё-таки тональный подтекст, какие-то призраки тональности. «И мы вернемся к ней. В этом смысл нашего переходного периода, нашего кризиса. Однако мы вернемся к тональности по-новому, обновленные катарсисом наших страданий» (Там же, 60).
Противопоставление мнений двух выдающихся дирижеров, как бы их полемический диалог, обозначило проблему авангарда, академизма и музыки будущего. Пафос Бернстайна очень заразителен, но объективности ради нужно упомянуть, что в первой половине XX века, о которой он судил, творили такие любимые публикой композиторы как Шостакович, Прокофьев, Хачатурян и Бриттен. А музыка авангардистов, которую он так решительно отвергал, нашла неожиданный отклик в поп-музыке (то ли продолжение, то ли основу).
Представленный здесь обзор показывает, что джаз, блюз и рок — это в основе не антимузыка, а разновидности музыкального языка, формы музыки, которые вполне вписываются в общее музыкальное развитие европейской цивилизации и культуры. Что каждая из этих форм опирается на традиционные формы музыки, частично возрождает какие-то традиции, развивая некие их неожиданные аспекты, обновляя и освежая музыкальный язык. Это не обязательно деградация, возвращение к примитиву. Музыкальные формы, как и вообще формы культуры, редко уходят насовсем. Они возрождаются через века, преобразованные и перешедшие в новые формы, обогащая мировую культуру.
Чтобы оценить жизненность и будущность новых форм, нужно попытаться уловить их связь с социальной психологией современников, особенно — с мышлением и чувствованиями молодого поколения, а для этого надо бы испытать эти новые музыкальные формы в широкой аудитории.
Гораздо большей свободой всегда обладала и сейчас обладает популярная музыка — песни народных бардов, танцевальные и развлекательные программы для простонародья, музыкальное оформление кинофильмов, непритязательное музицирование любителей. Здесь экспериментальный цех. Здесь раньше и откровеннее находит путь в музыку социальная психология эпохи. Здесь наряду с заведомым браком и побрякушками-однодневками куются рамки для будущих гармоний.
Это здесь молодой Брамс, играя в венских садах и ресторанах, готовил то, чему Шуман посвятил приветственную статью «Новые пути».
Это здесь самоучка Шёнберг набирался новых музыкальных идей, подвизаясь в кабаре, перед тем как взойти на кафедру композиции Венской музыкальной академии. Это здесь «Битлз» подслушали звон «Серебряного молотка Максвелла» и, вопреки черному юмору текста этой озорной песенки, уловили в серебряном звоне необходимую для новой гармонии свежесть и бодрость. Четыре ливерпульских парня сумели соединить силу народного творчества и изощренность современного мастерства. Когда слушаешь эту и другие их песни, полюбившиеся молодежи всех стран, возникает надежда, что мастер не выронит из рук свой серебряный молоток. А если поперек дороги новой гармонии встанет нудный блюститель старых гармонических добродетелей, замшелый ревнитель музыкального православия, готовый осудить и запретить всё новое, то
Bang! Bang! Maxwell’s silver hammer came upon his head;
Clang! Clang! Maxwell’s silver hammer made sure that he was dead.
Бом-бом! Серебряный молоток Максвелла опустился на его голову,
Дон-дон! Серебряный молоток Максвелла пришиб его наверняка.
Что мастер без молотка, что молоток без мастера — всё жалкое зрелище. Но ведь и молоток в руках мастера, — это не стоит забывать, — вовсе не обязательно должен понравиться каждому встречному. А вы готовы признать музыку будущего в этом серебряном звуке? Да и нужна ли вам, лично вам, музыка будущего? А если не нужна, — и это не такая вещь, которой надобно стесняться, — то готовы ли вы допустить, что кому-то она все же нужна и для кого-то хороша, и что этот кто-то не хуже вас, не грубее вас, а всего лишь моложе?..
Послесловие
Со времени написания представленного здесь текста прошло более трех десятилетий. Современный читатель, возможно, заметит склонность автора объяснять явления искусства, в частности музыки, социальными условиями эпохи. Эта склонность покажется читателю несколько наивной и сугубо марксистской, явно навеянной условиями тогдашней эпохи и среды. Это и верно и неверно. Я, безусловно, воспитывался в советской научной школе и осваивал советскую методику анализа исторических явлений. Эти навыки и сейчас у меня не исчезли.
Но тут у меня есть две оговорки. Первая состоит в том, что поиски социальной обусловленности исторических явлений, в том числе и явлений искусства, характерны не только для марксизма. Они существовали до марксизма, существовали и вне марксизма, во многих научных школах. Да и в самом марксизме, если не абсолютизировать и не доводить до крайности, это не худший его компонент. Вторая оговорка заключается в том, что я очень рано, еще в студенческие годы осознал пороки марксизма, особенно марксизма-ленинизма, и развил в себе критическое к нему отношение, разумеется, маскируемое в печатных произведениях. Тем не менее, многое проскальзывало, и полностью укрыть свое истинное отношение к марксизму-ленинизму не удавалось.
Это относится и к данной работе. Правоверному марксисту тех дней сразу же бросалось в глаза не то, что в работе есть, а то, чего в ней нет, но должно было бы наличествовать. А именно: в работе, посвященной периодизации художественного развития, нет деления на эпохи по социально-экономическим формациям. По знаменитой «пятичленке»: первобытное общество — рабовладельческое — феодализм — капитализм — социализм. Нетрудно увидеть, что у меня объединялись в одну эпоху (в эпоху единоголосия) первобытное общество, античное и раннефеодальное, а поздние эпохи все падали на этапы капиталистической формации.
Это отражало мои тогдашние взгляды, да и не только мои. На историческом факультете я тогда был одним из кураторов художественной самодеятельности (вместе с историком и драматургом Д. Н. Альшицом и Ю. Д. Марголисом). Самодеятельность наша доставляла факультетскому руководству немало хлопот. Одна из постановок факультетской самодеятельности (концерт выпускного курса) называлась «история в танцах». На сцену сначала выходили парни и девушки в звериных шкурах и устраивали дикие пляски (под музыку половецких танцев Бородина), а голос диктора объяснял, что это представлено первобытное общество. Потом на сцене появлялись рыцари и дамы, изображавшие нечто средневековое, затем господа и дамы в камзолах, танцевавшие менуэт. Менуэт сменялся вальсом, вальс — танго, танго — рок-н-роллом и твистом, а голос диктора всё комментировал это социологическим анализом, как вот растущий капитализм сменяется капитализмом реакционным и загнивающим, ритмы становятся синкопическими и ломкими, движения коверканными. А затем на сцену вбегали парни в тужурках и девушки в красных косынках и, сметя всю буржуазную сволочь со сцены, убегали. Сцена оставалась пуста. Все ждали какое-то время, а потом вдруг понимали, что наступил социализм.
Наглость этой постановки дошла до Обкома партии, тогдашнего всевластного распорядителя жизни в Ленинграде. Постановку обсуждали на заседании Обкома. Студенты на вопрос, почему при социализме танцы у них окончились, отвечали с деланной наивностью: А какие танцы характерны именно для социализма? Нет еще таких танцев. Вот нам пока танцевать и нечего. Декан и секретарь партбюро получили по выговору. Но политически острая обида Обкома за невеселый социализм заслонила более глубокий (и страшный) смысл постановки: ироническое обыгрывание догматической подладки всего многообразия развития под простенькую схемку пяти формаций.
Спорил я по вопросу об отказе от этой догмы и с одним из моих прежних учителей профессором Б. Б. Пиотровским — директором Эрмитажа. Мы встречались на перерывах между лекциями и на заседаниях, и он пытался меня убедить, что всё развитие культуры подчиняется этой периодизации — по рубежам между пятью фазами. Я же отстаивал тезис, что в культуре есть много автономных сфер, имеющих свои собственные рубежи, свой особый ритм, свои эпохи. Что факторы, маловажные для социоэкономического развития страны или региона, могут иметь определяющее значение для перемен в какой-то одной сфере культуры. «Возьмите историю шапок, — говорил я. — Какие шапки — первобытные, какие — рабовладельческие, какие — феодальные, какие — капиталистические? Какую шапку носите Вы? Такую же, как Ваш буржуазный коллега из Англии!» — «Подождите, — отвечал Б. Б., — социализм еще существует слишком мало времени. Социалистические шапки еще не сформировались, но непременно появятся». Споры шли по форме шутливо, но содержание было серьезно. Обычно Б. Б. закачивал их самым тяжеловесным аргументом: «Вас посадят». Он имел в виду не только мои взгляды, но и мои частые выходы в зарубежную печать. «А сажать меня не за что, — отвечал я. — Я не даю повода». Он был уверен, что повод найдется (в свое время он и сам был посажен, правда, ненадолго). Тут он был прав.