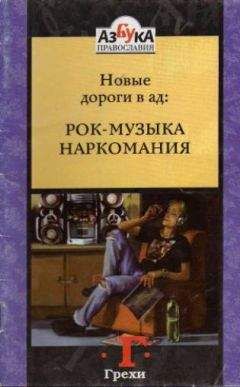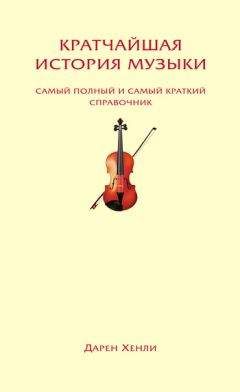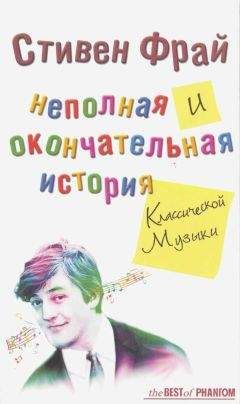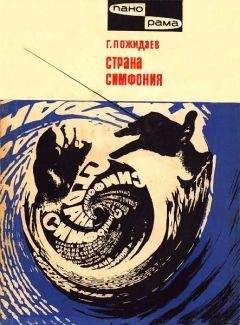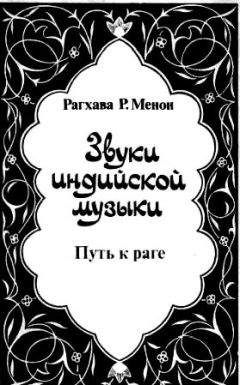Лев Клейн - Гармонии эпох. Антропология музыки
Это наблюдение верное, но ведь и торжественное филармоническое исполнение симфонической музыки тоже весьма напоминает древние ритуалы, которые должны оказать дополнительное психическое воздействие. Разница только в стиле и характере.
Более серьезны соображения о примеси биологического воздействии рока на слушателей. Медицинское воздействие любой музыки подмечено давно, но имелось в виду воздействие целебное, на котором основана музыкотерапия. Однако, если возможно целебное воздействие, то возможно и воздействие противоположное, вредное: любое лекарство при злоупотреблении превращается в яд. О воздействии музыки авторы пишут:
«…такое воздействие происходит на двух уровнях: либо на низшем, физиологическом, либо на высшем, психическом. Последний предполагает осмысление музыки и наличие соответствующих представлений у слушателя. На низшем уровне воздействие оказывает музыкальная форма своим общим звучанием — это смена тембров, темпа, ритма и изменение громкости. Никакого осмысления не требуется. Читатель, наверное, сам понял, что рок — именно та музыка, которая в целом как раз и рассчитана на низший уровень» (с. 77).
На первый взгляд, всё так. Но вдумаемся. Выходит, что истинное понимание музыки — это только ее осмысление рассудком, то есть перевод в слова. Не проще ли тогда и изложить всё словами? Всякую серьёзную музыку авторы грубо уподобляют программной. Нет, восприятие всякой музыки психикой — это именно воздействие «музыкальной формой, общим звучанием». Это изменения тембров, темпа, ритма, громкости, и, конечно, богатство мелодики и гармонии, которых в дурном роке (как и в плохой музыке вообще) — минимум. Все они — все! — действуют и физиологически и психически. Но верно то, что выход любого из этих параметров за какие-то пределы — например, в сверхнизкие или сверхвысокие частоты (инфразвуки, ультразвуки), непереносимое усиление громкости, отупляющее обеднение, монотонное повторение и т. п. — начинает действовать болезненно. Опять же и физиологически и психически.
Установлено, что ритм около полутора ударов в секунду в сопровождении мощного давления сверхнизких частот (15—30 герц) ввергает человека в экстаз, а при двух ударах в секунду и тех же частотах человек впадает в танцевальный транс сродни шаманскому. Мощность установок, на которых играли «Битлз», тогда, по нашим представлениям, измерялась 500–600 ваттами (измерять сам звук децибелами у нас в прессе стали позже). «Дорз» имели уже вдвое более сильные установки. Нынешние группы достигают мощностей в 50—70 раз более высоких. При таких мощностях звука надолго отключается рассудок. В пример те же авторы приводят японских журналистов, которые обошли крупнейшие рок-залы Токио и задавали слушателям простейшие вопросы: «Какой теперь год?» и т. п. Никто не мог ответить. Швейцарские медики установили, что после рок-концерта человек ориентируется и реагирует на раздражители в три с половиной раза хуже, чем обычно. Как с похмелья. Что уж говорить о длительном и систематическом воздействии такой музыки.
Авторы приводят клинические случаи деградации личности молодых людей — снижения способностей, порчи характера, развития скандальности вплоть до истерики, распада социальных связей, погружения в наркотики. И заключение:
«во всех случаях изменения в психике были связаны с увлечением рок-музыкой. …Можно рассуждать, что тут первично, что вторично. Довел ли ребят рок до психического расстройства или, будучи людьми с неустойчивой, слабой психикой, они выбрали соответствующую их состоянию музыку. Как бы там ни было, ухудшение произошло под воздействием рока» (с. 84—85).
Вину авторы возлагают на весь рок, на все его разновидности и группы, на все проявления. На рок как жанр музыки.
Это пережиток советской компании огульного шельмования рока как «западной заразы». Но рациональное зерно этой критики заключается в том, что дурные стороны действительно есть — не столько в самом роке, сколько в сложившейся вокруг него «рок-культуре». Что есть очень разные рок-стили и рок-группы, в том числе и сугубо вредные, примитивные и бездарные. Такие, где недостаток таланта компенсируется экстремальными выходками, безудержным умножением децибелов и экспансией в запредельные частоты.
И еще одно соображение (чего не учли Забродин и Александров). Значительная часть публики рок-концертов — это подростки. Психологи знают, что для подростков характерны и естественны групповые пошумелки — с грохотом, шумом, носящим ритмический и музыкальный характер, с эпатированием взрослых. Подростки так демонстрируют самим себе свое освоение ритмов, коллективного взаимодействия и обретенного места в мире. Как пишет биолог В. Р. Дольник, биологические корни пошумелок уходят очень глубоко — в регулярные вспышки демонстративно шумного поведения обезьян. У людей это возрастное. Многие рок-группы удовлетворяют эту потребность своей юной публики.
В главе «Рок рока» Дольник разъясняет (1994: 78),
«что подросток в экстазе пошумелки, с одной стороны, по-прежнему остается современным разумным человеком, а с другой стороны, он охвачен древним инстинктом и извлекает из него первобытное наслаждение. Я хочу вам напомнить, что только во второй половине XX века впервые в истории человечества громкие музыкальные инструменты и средства воспроизведения звука бесконтрольно со стороны взрослых массово оказались в руках подростков. Что средства коммуникации обеспечили им возможность слушать пошумелки не только соседних групп, но всего мира. Что при этом неизбежно происходит унификация музыки пошумелок с доминированием самых пошумелистых».
Примитивные и грубые формы и средства здесь естественно предпочитаются. Проблема в том, чтобы инфантильный компонент музыки, забавный и даже милый в небольших порциях и в уместных ситуациях, не распространялся на всю жизнь поколения, не становился доминирующим в целом жанре, не превращался в пережиточно-первобытный стандарт. Чтобы примитивные, пошлые, грубые и физически болезненные формы рока, выходящие за пределы музыки, не оказались успешными в конкуренции с талантливым использованием музыкальных средств в роке и популярной музыке. Ведь практика рока показывает, что и в нем возможны интересные ритмы, красивые мелодии и сложные гармонические модуляции.]
20. Мастер и молоток
В развитии серьёзной музыки также есть опасность удариться в крайность. Испытывая новые приемы в серьезной музыке, композиторы рискуют переоценить присущий этому жанру уклон от массовости; они могут возвести элитарность в принцип и, совершенно оторвавшись от запросов публики, превратить свое творчество в «музыку для музыкантов» (лозунг джазового стиля бибоп). Тогда поиски нового утрачивают живость и содержательность, превращаются в пустые формалистические изыски, в фокусничество, в изобретательство новых средств ради самого изобретательства, ради самой новизны, ради самих средств. Музыка лишается души — инструмент остается, но исчезает творец. В 1955 г. французский композитор Пьер Булез написал камерную сюиту (для меццо-сопрано, вибрафона, гитары и ударных) под примечательным названием: «Молоток без мастера».
Известный американский дирижер первой половины XX века Леопольд Стоковский, глядя в будущее, не боялся разрушения тональности
С Леопольдом Стоковским, высказывания которого о музыке будущего я цитировал ранее, совершенно не согласен другой американский дирижер — Леонард Бернстайн (1978: 57). Он считает разрушение тональности гибелью для музыки.
«…я признаюсь, — пишет он в 1966 г., — по собственной воле, хотя и без радости, что в данный момент, да простит мне бог, я нахожу гораздо больше удовольствия, когда слежу за музыкальными приключениями Саймона и Гарфункеля…, чем в большей части того, что пишется теперь всей общиной композиторов-«авангардистов»… Поп-музыка представляется единственной областью, где всё полно жизни, где царит веселье изобретательства, где легко дышится. Всё остальное вдруг кажется устаревшим: электронная музыка, сериализм, алеаторика… — всё это уже приобрело затхлый запах академизма. Кажется, что даже джаз пришел к мучительной остановке».
Именно этим Бернстайн объясняет предпочтение музыке прошлых времен у публики.
«Уже пятьдесят лет слушатели проявляют интерес прежде всего к музыке прошлого… Страшный факт состоит в том, что между композитором и публикой за последние пятьдесят лет раскинулся океан. Можете ли вы вспомнить подобный пятидесятилетний период после эпохи Ренессанса, когда имела место такая же ситуация? Я не могу. И если это правда, то она означает драматические качественные изменения в нашем музыкальном обществе, а именно: мы впервые живем музыкальной жизнью, не основанной на произведениях нашего времени. Это явление характерно именно для XX века, — оно никогда не возникало прежде» (Бернстайн 1978: 56).