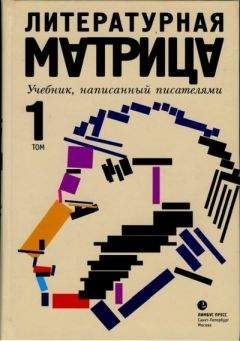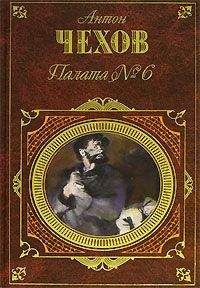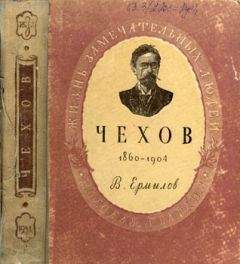Илья Бояшов - Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. Том 2
Это стихотворение написано в 1918 году, когда началась Гражданская война. И страна постепенно сползала в ожесточение, граничащее со всеобщим озверением. Совсем скоро потекут реки крови. Десятки, сотни тысяч людей будут порублены кавалерийскими шашками, расстреляны без суда и следствия, повешены и уморены голодом — и уже совсем скоро любые известия об этом перестанут будить в очерствевших душах какие бы то ни было эмоции… Где уж тут пожалеть какую-то лошадь!.. Дело не в лошади. Точнее, не только и не столько в, ней. Поэта ужасают не страдания бессловесного существа, а реакция толпы, ее звенящий и звякающий смех, который несколькими строками ниже Маяковский называет «воем» — несомненно, волчьим. И толпе, которая всегда руководствуется моралью «Ату его, слабого!» и «С волками жить — по-волчьи выть», поэт пытается напомнить, что «все мы немножко лошади, каждый из нас по-своему лошадь».
Кто, как не поэт, должен напомнить человеку о человеческом — особенно в том историческом контексте, когда страну охватывало всеобщее озверение. Так что неслучайно обладателем звериных качеств в стихотворении Маяковского оказывается человеческая толпа — а лошадь, напротив, «очеловечена».
В стихотворении «Скрипка и немножко нервно» одушевленными существами становятся музыкальные инструменты:
Скрипка издергалась, упрашивая,
и вдруг разревелась
так по-детски,
что барабан не выдержал:
«Хорошо, хорошо, хорошо!»
А сам устал,
не дослушал скрипкиной речи,
шмыгнул на горящий Кузнецкий
и ушел.
Оркестр чужо смотрел, как
выплакивалась скрипка
без слов,
без такта,
и только
где-то
глупая тарелка
вылязгивала:
«Что это?»
«Как это?»
А когда геликон —
меднорожий,
потный,
крикнул:
«Дура,
плакса,
вытри!» —
я встал,
шатаясь полез через ноты,
сгибающиеся под ужасом пюпитры,
зачем-то крикнул:
«Боже!»,
Бросился на деревянную шею:
«Знаете что, скрипка?
Мы ужасно похожи:
я вот тоже
ору —
а доказать ничего не умею!»
Музыканты смеются: «Влип как!
Пришел к деревянной невесте!
Голова!»
А мне — наплевать!
Я — хороший.
«Знаете что, скрипка?
Давайте — будем жить вместе!
А?»
Эти строки также написаны в тревожный исторический момент — в 1914 году, когда началась Первая мировая война. Любопытно, что здесь тоже, как и в стихотворении «Хорошее отношение к лошадям», упомянут Кузнецкий мост. Ведь если следовать ассоциативной логике, то можно догадаться, что это вовсе не случайная деталь, а своего рода «скрытая метафора»: Кузнецкий, безусловно, призван напомнить о «молоте истории», который колотит по наковальне человеческого бытия.
Сюжет «Скрипки и немножко нервно» — это тоже противостояние существа, которое способно тонко и обостренно чувствовать (скрипка), и толпы (ее здесь представляют прочие музыкальные инструменты и оркестранты). И бесконечное одиночество того, кто тщетно пытается объяснить что-то «усталым барабанам», «глупым тарелкам» и «меднорожим геликонам». Точно так же страдает от непонимания и сам поэт: «я вот тоже ору — а доказать ничего не умею!»
НАЕДИНЕ С БОГОМРанний Маяковский — бунтарь, который находится в оппозиции ко всему миру. Особенно ярко максимализм поэта проявился в поэме «Облако в штанах»:
Вашу мысль,
мечтающую на размягченном мозгу,
как выжиревший лакей на засаленной кушетке,
буду дразнить об окровавленный сердца лоскут;
досыта изъиздеваюсь, нахальный и едкий.
Автор определил содержание поэмы, состоящей из четырех частей, следующим образом[71]: «„Облако в штанах“… считаю катехизисом[72] сегодняшнего искусства; „Долой вашу любовь“, „долой ваше искусство“, „долой ваш строй“, „долой вашу религию“ — четыре крика четырех частей».
Итак, в первой части поэмы он «судит» любовь. Правильнее, впрочем, было бы поставить в кавычки слово «любовь», так как это «их любовь» — чувство, которое полностью подчинено расчету:
Вошла ты,
резкая, как «нате!»,
муча перчатки замш,
сказала:
«Знаете —
я выхожу замуж».
<…>
Помните?
Вы говорили:
«Джек Лондон,
деньги,
любовь,
страсть», —
а я одно видел:
вы — Джиоконда,
которую надо украсть!
И украли.
И эта, казалось бы, сугубо личная, частная драма переживается лирическим героем поэмы как тотальный апокалипсис:
Мама!
Ваш сын прекрасно болен!
Мама!
У него пожар сердца.
(…)
Люди нюхают — запахло жареным!
Нагнали каких-то. Блестящие! В касках!
Нельзя сапожища!
Скажите пожарным:
на сердце горящее лезут в ласках.
Я сам.
Глаза наслезнённые бочками выкачу.
Дайте о ребра опереться.
Выскочу! Выскочу! Выскочу! Выскочу!
Рухнули.
Не выскочишь из сердца!
(…)
Обгорелые фигурки слов и чисел из черепа,
как дети из горящего здания.
(…)
Трясущимся людям
в квартирное тихо
стоглазое зарево рвется с пристани.
Крик последний, —
ты хоть
о том, что горю, в столетия выстони!
Поэт берет на себя ответственность судить все сущее на свете. Во второй части поэмы Маяковский громит прогнившее искусство. Что, в общем-то, уже было в коллективном манифесте «Пощечина общественному вкусу». На этот раз критика значительно радикальнее. Поэты прошлого, по мнению Маяковского,
…выкипячивают, рифмами пиликая,
из любвей и соловьев какое-то варево,
(…)
а во рту
умерших слов разлагаются трупики,
только два живут, жирея —
«сволочь»
и еще какое-то,
кажется — «борщ».
Поэты,
размокшие в плаче и всхлипе,
бросились от улицы, ероша космы:
«Как двумя такими выпеть
и барышню,
и любовь,
и цветочек под росами?»
Эта гипербола насчет двух уцелевших слов очень точно отражает те изменения, которым всегда подвергается язык в эпоху, когда происходят радикальные перемены в жизни общества. В такие переломные исторические моменты оказывается, что язык, которым пользовались наши отцы и деды, уже не способен адекватно описывать новые явления. Потому-то, как точно заметил Маяковский, «улица корчится, безъязыкая». И язык вынужден существенно обновляться. Существенно изменяется фразеология: то, что еще вчера было у всех на устах, сегодня вдруг оказывается излишне высокопарным. Появляются новые слова и даже интонации.
Так, например, было и в 90-е годы прошлого века, после разрушения советского строя. Вне всякого сомнения, человек, которого чудесным образом «законсервировали» бы в 1985 году и «расконсервировали» лет через десять, мало что понял бы из того, о чем говорят на улице, обретшей новый язык.
Точно так же меняется и язык искусства: литературы, живописи, музыки, театра, кино. Новое мышление требует новых выразительных средств, прежде не существовавших. Поэтому лозунг Маяковского «Долой ваше искусство!» — это не «бессмысленный и беспощадный» бунт, а вполне естественное требование заменить устаревшую эстетику новой, способной адекватно описывать проблемы современности.
«Долой ваш строй!» — ну, это вполне понятно. Но у Маяковского претензии к существующему государственному строю в конечном итоге трансформируются в яростную ненависть к государству, подавляющему в человеке все человеческое:
Выньте, гулящие, руки из брюк —
берите камень, нож или бомбу,
а если у которого нету рук —
пришел чтоб и бился лбом бы!
«Долой вашу религию!» — это уже бунт против миропорядка вообще. Недаром Маяковский первоначально назвал эту поэму «Тринадцатый апостол», однако цензура не пропустила столь святотатственный заголовок.
Я, воспевающий машину и Англию,
может быть, просто,
в самом обыкновенном евангелии
тринадцатый апостол.
И когда мой голос
похабно ухает —
от часа к часу,
целые сутки,
может быть,
Иисус Христос нюхает
моей души незабудки.
(…)
Я думал — ты всесильный божище,
а ты недоучка, крохотный божик.
Видишь, я нагибаюсь,
из-за голенища
достаю сапожный ножик.
Крыластые прохвосты!
Жмитесь в раю!
Ерошьте перышки в испуганной тряске!
Я тебя, пропахшего ладаном,
раскрою отсюда до Аляски!
Пустите!
Меня не остановите.
Для «красивого, двадцатидвухлетнего» поэта вполне естественно воспринимать Божий промысел как несправедливость, а испытания, которые Он посылает человеку, — как незаслуженное наказание и глумление над неповинными.