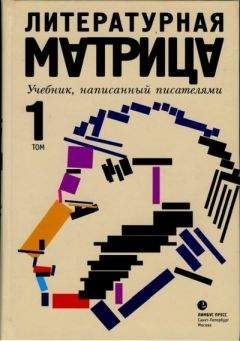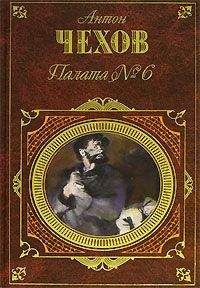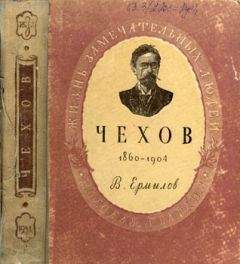Илья Бояшов - Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. Том 2
А после скандальных выступлений пресса величала троицу уже не «вождями футуризма», а «циркачами», «балаганщиками», «святотатцами», «Геростратами», «желторотыми бунтовщиками» и «поэтами из психиатрической лечебницы». Маяковского, самого молодого из троицы, который круче всех зажигал, завораживая и юношей с горящими взорами, и эмансипированных курсисток, называли «этот сукин сын». Строкой «я люблю смотреть, как умирают дети» он прямо-таки нагонял жуть на слушателей. Публика, как и во все времена, включая нынешние (особенно нынешние!), была падка на эпатаж. С огромным восторгом она воспринимала стихотворение Бурлюка, воспевающее писсуар, и строки Каменского «Я хочу один — один плясать / Танго с коровами / И перекидывать мосты / От слез / Бычачьей ревности / До слез / Пунцовой девушки». Так ведь чего еще можно ожидать от ниспровергателей устоев, которым едва перевалило за двадцать?
Впрочем, даже самые яростные критики молодых футуристов способны были заметить, что Маяковский стоит «особняком от всей этой каши» (так писала одесская газета «Южная мысль»).
Таким было начало семи самых плодотворных лет в творческой биографии поэта. И плодотворными они были не в количественном отношении, а в качественном. Впоследствии, когда забронзовевший Маяковский, наделенный всяческими мандатами и полномочиями, обласканный властью, беспрерывно гнал стихотворение за стихотворением, словно ударник литературного труда, — ему не удалось даже приблизиться к созданным в тот ранний период шедеврам. Но эти шедевры позволяют утверждать, что Маяковский был гением.
НЕМНОЖКО НЕРВНОВ стихах, написанных в то время, буквально в каждой их строчке, отчетливо проступает неудовлетворенность существующей действительностью, протест против тупости, лицемерия и смертельной скуки, царивших в мире, который окружал поэта. Им он противопоставляет уникальность человеческой души — своей собственной. Но это подразумевает, что и всякая человеческая личность, если ее разбудить и как следует встряхнуть, уникальна.
Встряхнуть, например, так, как Маяковский делает в стихотворении «А вы могли бы?».
Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.
А вы ноктюрн сыграть могли бы
на флейте водосточных труб?
Здесь поэт уже не стремится ни напугать читателя, ни эпатировать. Здесь он показывает, что за окружающей нас повседневностью, за «картой будня», скрывается громадный и удивительный мир — и нужно лишь суметь увидеть его. А помочь в этом, разумеется, должно новое искусство.
Набор образов в этом стихотворении только кажется случайным. На самом деле их последовательность продиктована четкой логикой. Но это логика особого рода — ассоциативная. «Карта будня» представляется нам серой, бесцветной, скучной — именно на фоне расцвечивающей ее краски. Студень до его застывания был соленой жидкостью — как и океанские воды. А в «косых скулах» мы угадываем океанские волны, что можно понимать как взволнованность автора. И, наконец, на флейте играют именно новые губы, зовущие читателя отринуть скуку повседневности и новыми глазами взглянуть на огромный и прекрасный мир.
Такая трансформация предметов и явлений характерна для Маяковского. В своих стихах он мастерски пользуется развернутыми метафорами: «вбиваю гулко шага сваи», «фокусник рельсы тянет из пасти трамвая», «перекрестком распяты городовые», «с каплями ливня на лысине купола скакал сумасшедший собор», «с неба, изодранного о штыков жала, слезы звезд просеивались, как мука в сите», «по эхам города проносят шумы на шепоте подошв и на громах колес»…
Есть более сложные метафоры, в которые необходимо вчитываться, вдумываться. Но тем прекраснее открытия, которые нам дарит работа мысли. «Ах, закройте, закройте глаза газет!» — это из стихотворения «Мама и убитый немцами вечер», написанного в 1914 году, когда уже шла Первая мировая война. Здесь газеты уподобляются мертвым, поскольку на их страницах печатались списки погибших на фронте солдат. А «трамвай расплещет перекаты гроз» — это двойная метафора, которая передает и грохот колес на рельсах, то есть гром, и срывающиеся с проводов искры, уподобляемые молниям.
Конечно, подписавшись под футуристическим манифестом, который декларировал непреодолимую ненависть к существовавшему прежде языку, Маяковский несколько перегнул палку. Ибо на протяжении всей жизни продолжал трепетно относиться, например, к поэзии Андрея Белого, принадлежавшего к «устаревшей» школе. Но, наверное, без этой декларации и не стал бы он создателем нового, доселе неведомого поэтического языка, нового ритмического рисунка стиха, собственной ритмики, которую, условно говоря, можно назвать «расхлябанной». Ее он мастерски воспроизводил, читая стихи с эстрады, — делая паузы, повышая и понижая голос в нужных местах. И при этом, словно дирижер, задавал ритм взмахами руки.
Графически необычный ритм своих стихов Маяковский передавал при помощи особой записи, «ломавшей» строку:
У —
лица.
Лица У
догов
годов
рез —
че.
Че —
рез
железных коней
с окон бегущих домов
прыгнули первые кубы.
А потом изобрел свою знаменитую «лесенку». Лесенка была чем-то вроде подсказки — она помогала читать стихи с правильной интонацией. Знаков препинания, по его мнению, для этого было явно недостаточно: «Наша обычная пунктуация… чересчур бедна и маловыразительна по сравнению с оттенками эмоций, которые сейчас усложненный человек вкладывает в поэтическое произведение».
Изрядно потрудился Маяковский и над своим словарем. Он использовал «самопальные» слова, то есть слова собственного сочинения. (Правда, нельзя сказать, что в этом он был первопроходцем. Индивидуально-авторскими неологизмами славился и, например, Игорь Северянин, в стихах которого можно встретить и «ветропросвист», и «олуненные» аллеи, и «оэкраненного» поэта.)
Это позволяло поэту усиливать выразительность стиха, привносить в слова дополнительные смыслы и тем самым придавать произведению дополнительную глубину. Вот, например, сколь органично вплетает Маяковский неологизмы в текст поэмы «Флейта-позвоночник»:
Если вдруг подкрасться к двери спаленной,
перекрестить над вами стегани одеялово,
знаю —
запахнет шерстью паленной,
и серой издммится мясо дьявола.
А я вместо этого до утра раннего
в ужасе, что тебя любить увели,
метался и крики в строчки выгранивал,
уже наполовину сумасшедший ювелир.
В карты б играть!
В вино
выполоскать горло сердцу изоханному.
…«Когда мир раскалывается надвое, трещина проходит через сердце поэта» — кажется, что эти слова Генриха Гейне сказаны именно о Маяковском. Он был человеком в буквальном смысле с обнаженными нервами, обостренно чувствовавшим и остро переживавшим всякую несправедливость, любую боль. Вот, например, стихотворение «Хорошее отношение к лошадям».
Били копыта.
Пели будто:
— Гриб.
Грабь.
Гроб.
Груб. —
Ветром опита,
льдом обута,
улица скользила.
Лошадь на круп
грохнулась,
и сразу
за зевакой зевака,
штаны пришедшие
Кузнецким клёшить,
сгрудились,
смех зазвенел и зазвякал:
— Лошадь упала! —
— Упала лошадь! —
Смеялся Кузнецкий.
Лишь один я
голос свой
не вмешивал в вой ему.
Подошел и вижу
глаза лошадиные…
Улица опрокинулась,
течет по-своему…
Подошел и вижу —
за каплищей каплища
по морде катится,
прячется в шерсти…
И какая-то общая
звериная тоска плеща
вылилась из меня
и расплылась в шелесте.
«Лошадь, не надо.
Лошадь, слушайте —
чего вы думаете,
что вы их плоше?
Деточка,
все мы немножко лошади,
каждый из нас по-своему лошадь».
Может быть
— старая —
и не нуждалась в няньке,
может быть, и мысль ей моя казалась пошла,
только
лошадь
рванулась,
встала
на ноги,
ржанула и пошла.
Хвостом помахивала.
Рыжий ребенок.
Пришла веселая,
стала в стойло.
И все ей казалось —
она жеребенок,
и стоило жить,
и работать стоило.
Это стихотворение написано в 1918 году, когда началась Гражданская война. И страна постепенно сползала в ожесточение, граничащее со всеобщим озверением. Совсем скоро потекут реки крови. Десятки, сотни тысяч людей будут порублены кавалерийскими шашками, расстреляны без суда и следствия, повешены и уморены голодом — и уже совсем скоро любые известия об этом перестанут будить в очерствевших душах какие бы то ни было эмоции… Где уж тут пожалеть какую-то лошадь!.. Дело не в лошади. Точнее, не только и не столько в, ней. Поэта ужасают не страдания бессловесного существа, а реакция толпы, ее звенящий и звякающий смех, который несколькими строками ниже Маяковский называет «воем» — несомненно, волчьим. И толпе, которая всегда руководствуется моралью «Ату его, слабого!» и «С волками жить — по-волчьи выть», поэт пытается напомнить, что «все мы немножко лошади, каждый из нас по-своему лошадь».