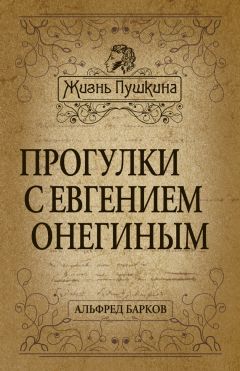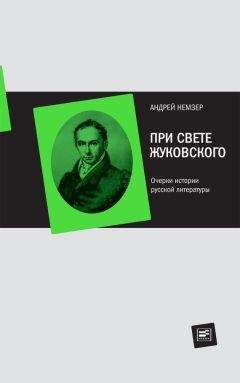Игорь Дьяконов - Об истории замысла "Евгения Онегина"
(Гл. 7, строфа XXII; VI, 148)
Именно такой герой, как мы знаем, единственно и привлекал внимание Онегина (второй вариант черновика этой строфы — VI, 438): мрачный, губительный для окружающих Мельмот Мэтьюрина, мечтательный Рене Шатобриана, презирающий светскую чернь, эгоцентричный, со скованной волей Адольф Констана{21} и, конечно, разочарованный жизнью, погруженный в себя наблюдатель общественных страстей Чайльд Гарольд и другие байроновские герои, — или же, вернее, сам Байрон, как он себя в них изобразил (гл. 1, строфа XXXVIII; см. черновики: VI, 217, 244, 307, 439){22}. Главной маской Онегина была маска байрониста (так же как и для Кавказского пленника до него); но в романе объектом сатиры является не сама лишь маска, а более глубокая эгоистичная, безвольная, зависимая от модных страстей сущность пушкинского современника. Конечно, здесь не «ювеналов бич», а лишь легкая ирония, но все же образ героя сатиричен.
Однако Пушкин в письмах к Дельвигу от 16 ноября 1823 г. и к А. И. Тургеневу от 1 декабря 1823 г. не только говорил об «Онегине» как о произведении, невозможном для цензуры, но во втором из них писал про себя, что «захлебывается желчью»{23}. Между тем написано это не только после 1-й главы, но и после 2-й! Где же желчь? Конечно, не в шутливом описании госпожи Лариной и ее соседей, и даже не в иронии по поводу пиитических восторгов Ленского, хотя последний в черновике смешнее, чем в печатном тексте (но и там описание его чтения вслух Ольге, углубления в патетического Шиллера перед дуэлью и предсмертные пародийные стихи звучат довольно насмешливо). Однако желчь предполагает озлобление, жажду литературного возмездия. Предметом для этого в романе мог к концу 1823 г. быть уже только сам Онегин. С ним его автору приходилось бороться как с противником: «Мне было грустно, тяжко, больно Но одолев меня в борьбе Он сочетал меня невольно Своей таинственной судьбе —»{24}. Теперь с помощью сатиры нужно было одолеть его («с его безнравственной душой») — в том числе и в себе самом.
Но ясно, что не сатира сама по себе была центральной задачей «Онегина»: он принадлежал к совершенно особому, новому жанру романа. Впервые именно здесь современная эпоха была развернута «в вымышленном повествовании». И поэтому изображение «человека, которых тысячи встречаем наяву» (как с упреком замечал А. А. Бестужев, — XIII, 149), как раз и входило в авторскую задачу — именно этот человек мелькнул у Пушкина уже в «Кавказском пленнике». Это предполагало нравоописание с выражением авторского отношения (шутливого) к описываемому, что в категориях архаической поэтики можно было отнести к сатирическому роду. Но далее под пером Пушкина это «шутливое описание» нравов{25} превратилось в подробную «физиологию» (применяя термин XIX в.) большого света и усадьбы. Такой задачи еще никогда и никто — даже Байрон{26} — не решал в стихах.
Пушкин сам называл «Онегина» стихотворным романом «вроде Дон-Жуана» (письмо к Вяземскому от 4 ноября 1823 г.); но этим он указывал только на самую общую жанровую природу своего нового произведения. Против сближения замысла «Онегина» с «Дон Жуаном» Пушкин, как мы видели, протестовал, и справедливо. Между экзотическим вневременным антуражем первых песней «Дон Жуана», известных тогда Пушкину, и точным нравоописанием Петербурга 1819 г. в «Онегине» нет ничего общего. Правда, бесконечные байроновские отступления создавали хороший прецедент для Пушкина{27}, и, как уже сказано, похоже на то, что знакомство с английским «Дон Жуаном» в 1820 г. навело его на мысль использовать для поставленной им себе задачи жанр строфической сатирической поэмы. Однако Пушкин, ссылаясь в предисловии к 1-й главе на ее байроновский прототип, называет вовсе не «Дон Жуана», а «Беппо». Действительно, 1-я глава «Онегина», ироническое описание нравов Петербурга, гораздо более похожа на «Беппо», шуточное описание нравов Венеции, с той разницей, что юмор «Беппо» грубее, стих тяжеловеснее, а в отступлениях немало «личностей», которых так старался избегать Пушкин. Дальнейшие же главы романа непохожи ни на «Беппо», ни на «Дон Жуана»{28}, разве что только множеством авторских отступлений.
Пушкин придавал большую важность определению «роман в стихах» (письмо к Вяземскому от 4 ноября 1823 г.). Стихотворная форма не требовала создания новой прозаической техники и лексики, позволяла не торопиться с развертыванием сюжета («забалтываться», как говорил Пушкин). Но, кроме того, она позволяла писать с афористическим блеском. Она позволяла совершить нечто абсолютно новое в европейской литературе: не только никто еще не писал в стихах подлинного романа, но никто так не «разворачивал» свою эпоху «в вымышленном повествовании».
Новая форма удовлетворяла Пушкина: «от прозы меня тошнит», — пишет он Вяземскому 19 августа 1823 г. (XIII, 68), прося написать за себя прозаическое предисловие ко второму изданию «Руслана и Людмилы» и «Кавказского пленника» (ср. также письмо от 14 октября 1823 г.). Работа над стихотворным романом о современнике спорилась в соответствии с замыслами Пушкина.
2. Додекабрьский план «Евгения Онегина»
Каков же был первоначальный план этого романа в стихах? Прежде всего надо совершенно отбросить предположение о том, что определенного замысла вообще не было. Повод, правда, дал сам Пушкин в заключительных строфах последней главы: «Промчалось много, много дней С тех пор как юная Татьяна И с ней Онегин в смутном сне Явилися впервые мне — И план свободного романа Я сквозь магический кристалл Еще неясно различал» (гл. 8, строфа L, беловик Ba; VI, 636; ср. с. 190).
Если верить этим стихам, роман был «свободным», план его был неясен, конец тоже; первой в замыслах явилась Татьяна, а уж «с ней» Онегин. Нарисованная Пушкиным картина относится к «поэзии», но не к «действительности». Байрон — тот, когда начинал «Дон Жуана», в самом деле не знал, куда он поведет героя{29}. Но такая техника была совершенно чужда и даже незнакома Пушкину. Вопрос о его планах довольно подробно разработан Б. С. Мейлахом, и он ясно показал, что план — весьма существенная фаза создания пушкинских произведений: «Целенаправленность замыслов Пушкина проявлялась, как правило, с самого начала»{30}. Поэт, от которого до нас дошли планы и предварительные записи почти для всех поэм, драм, повестей, даже для некоторых лирических стихотворений, не мог сделать исключения для своего главного, «постоянного» труда и начать его без ясного плана, без продуманного замысла от завязки до развязки. То обстоятельство, что план этот до нас не дошел, следует отнести к числу случайностей. Но его можно до известной степени реконструировать, экстраполируя данные о ходе рабочего процесса.
Б. С. Мейлах считает, что переломным моментом в развитии типа пушкинских планов была работа над «Борисом Годуновым». Но планы-наметки совершенно прежнего типа встречаются у Пушкина и после «Бориса Годунова», а более развернутые планы — и раньше (ср., например, планы стихотворений «Ты прав, мой друг» (II, 778), «Наполеон» (II, 707), планы драматического замысла 1821 г. «Скажи, какой судьбой»). Все зависит от конкретных задач плана. Например, если в поэме нужно было планировать только порядок хода повествования, то в развернутых драматических произведениях («Скажи, какой судьбой», «Борис Годунов», «Сцены из рыцарских времен») планировать надо было распределение мизансцен, и уже поэтому планы в том и другом случае не могли быть одинаковыми. Помимо общих планов бывали еще планы стихотворений или отдельных пассажей в более крупных произведениях (например, письма Татьяны). Но основным типом первичного плана большого произведения оставался один и тот же вплоть до 30-х годов, когда появляются планы более подробные. Приводим четыре плана более ранних, чем «Онегин», и четыре более поздних:
План{31} «Кавказского пленника» (1820): «Аул | Пленник | Дева | Любовь | Бешту | Черкесы. | Пиры. | Песни | Воспоминанья. | Тайна. | Набег. | Ночь... | Побег» (IV, 285 и сл.; ср. там же более ранний план).
План «Гавриилиады» (1821): «Святой дух, призвав Гавриила описывает ему свою любовь и производит в сводники[1] Сатана и Мария» (IV, 368).
План поэмы о гетеристах (1821): «Два арнаута хотят убить Александра Ипсиланти. Иордаки убивает их — поутру Иордаки объявляет арнаутам его бегство — Он принимает начальство и идет в горы — преследуемый турками — Секу (место битвы, — И. Д.)» (V, 153).
План «Бахчисарайского фонтана» (1821?): «Гарем | Мария | Гирей и Зарема | Монах — Зарема и Мария | Ревность. Смерть М. и Зар. | Бахчисарай<ский> Ф.» (IV, 402).
План «Цыганов» (1824): «Старик | Дева | Алеко и Мариола | Утро. Медведь, селенье опустелое | Ревность | Признание | Убийство | Изгнание» (IV, 453).