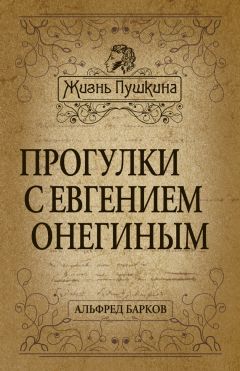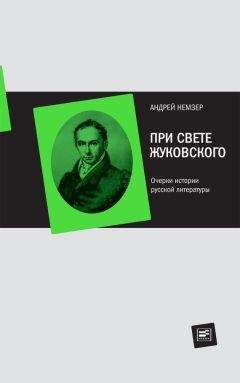Игорь Дьяконов - Об истории замысла "Евгения Онегина"
Классицистическая поэтика допускала жанр с остросовременной тематикой, причем жанр стихотворный, а потому естественный для Пушкина. Это был жанр сатиры. Пушкин уже ранее писал малые сатиры; но возможен был и сатирический эпос. К нему Пушкин, видимо, и обращается еще в Кишиневе. Речь идет о «ювеналовском» отрывке «О муза пламенной сатиры». Уже давно замечено, что в нем слышна «онегинская строфа» (с пропуском стихов <10> и <11>). Но четкости этой строфы в нем еще нет, и его трудно датировать позднее 1822—1823 гг. Поэтому можно с большой долей уверенности считать, что он принадлежит к доонегинским наброскам сатирической поэмы. Существенно, что в отличие от классицистических прототипов XVII—XVIII вв. он не был направлен против литературных противников{15}.
Можно, как нам кажется, наметить две линии развития мыслей Пушкина, ведших к роману в стихах. Одна была связана с его размышлениями о прозе и необходимости романа как главного прозаического жанра; решению этой проблемы мешали отсутствие «метафизического» русского языка и неуверенность Пушкина в том, что он справится с прозой. Другая была связана с мыслью решить задачу большого современного произведения стихотворными средствами: была испытана «быстрая» романтическая поэма («Кавказский пленник») и отвергнута, по крайней мере для этой цели, но затем появилась идея сатирической поэмы в духе байроновского «Беппо» и первых песен «Дон Жуана».
Видимо, Пушкину очень рано стало ясно, что от жанра сатирических строфических поэм, над которыми он думал уже несколько лет, один шаг до столь нужного ему жанра — романа. Обозначение «роман» появляется уже в первом черновике 1-й главы (строфа II; VI, 214). По изложенным выше причинам Пушкину необходимо было создавать его так или иначе как стихотворный. Однако, назвав свое сочинение уже в самом начале «романом», Пушкин, видимо, первое время воспринимал это обозначение как переносное, метонимическое. Начав писать 9 мая 1823 г. строфы 1-й главы без всякого заглавия{16}, он в нижнем углу второй страницы выписывает придуманное им название: «Евгений Онегин», но не с определением «роман в стихах», а просто «поэма в <n главах») (черновик ПД № 834, л. 5). Выражение «роман в стихах», употребленное всерьез как жанровое определение, в дошедших до нас пушкинских бумагах впервые встречается в письме к Вяземскому от 4 ноября 1823 г.; но из контекста видно, что оно возникло раньше этого письма и не позже окончания 1-й главы в октябре того же года.
Решение превратить поэму «Евгений Онегин» в нечто совершенно новое — в роман в стихах, принятое в важном для поэтического развития Пушкина 1823 году, пришло в момент, когда поворот в его судьбе принес ощущение новых, бо́льших сил; оно совпало с его переездом из «полуазиатского» Кишинева в «европейскую» Одессу, с иным кругом общественных и интеллектуальных интересов. В таком настроении душевного подъема было можно, наконец, приняться за большой «постоянный труд». О необходимости этого «постоянного труда» писал Пушкин Вяземскому еще в сентябре 1822 г. и так назвал «Онегина», прощаясь со своим трудом в сентябре 1830 г. в Болдине (гл. 8, строфа L).
Что именно имел в виду Пушкин под «романом», когда в 1823 г. он так обозначил свое произведение? В какой литературный ряд оно тем самым включалось? Что представляло оно для самого автора? Кажется, лучше всего к «Онегину» подходит то определение, которое дал жанру романа сам Пушкин: «историческая эпоха, развитая в вымышленном повествовании» (рецензия на «Юрия Милославского» М. Н. Загоскина, 1830 г. — XI, 92). Правда, эта дефиниция учитывает опыт Скотта, и поэтому считается, что она не может быть отнесена к 1823 г. Но почему Пушкин не мог учитывать опыт Скотта и в 1823 г.? Какой же другой опыт жанра романа мог он тогда учитывать? Конечно, не роман в письмах, хотя расцвет его был еще недавним прошлым, и он еще не вышел тогда из моды; Фильдинга и Смоллетта едва ли Пушкин в то время хорошо знал; «Адольфа» даже сам Бенжамен Констан не считал подлинным романом, да в нем — в отличие от «Онегина» — и нет «эпохи, развитой в вымышленном повествовании»; о романах мадам де Сталь и Шатобриана это, пожалуй, и можно утверждать, но лишь с известной натяжкой. Все же типологически более близкими предшественниками были «уэверлеевские» романы Скотта. «Онегин» отличается от них тем, что эпоха, развитая в нем, — это современность, тогда как Скотт позже Пушкина пришел к роману о современниках; но такая самостоятельность должна меньше всего удивлять нас в Пушкине, и Д. П. Якубович недаром сказал, что Пушкин «повстречал В. Скотта» на собственном пути{17}. Когда же Пушкин позже, в 1830 г., давал дефиницию романа, он, несомненно, исходил не только из скоттовского, но и из своего опыта.
Однако, как сказано, «Онегин» был задуман как сочинение сатирическое; сатирическим оно осталось и превратившись в роман. На это не раз указывал сам Пушкин. Так, в предисловии к 1-й главе (Пб., 1825) Пушкин (от лица мнимого издателя) говорит: «...да будет нам позволено обратить внимание читателя на достоинства, редкие в сатирическом писателе: отсутствие оскорбительной личности и наблюдение строгой благопристойности в шуточном описании нравов» (VI, 638). Эти слова вызвали критические замечания А. А. Бестужева, который судил о 1-й главе как о сочинении сатирического жанра вроде байроновского «Дон Жуана». Пушкин отвечал ему: «Ты сравниваешь первую главу с Дон-Жуаном. — Никто более меня не уважает Дон-Жуана <...>, но в нем нет ничего общего с Онегиным. Ты говоришь о сатире англичанина Байрона и сравниваешь ее с моею, и требуешь от меня таковой же! Нет, моя душа, много хочешь <...> У меня затрещала бы набережная, если б коснулся я сатиры»{18} (письмо от 24 марта 1825 г., — XIII, 155). Тут Пушкин, видно, вспомнил, что сам же первый и упомянул сатиру в связи с «Онегиным», и прибавил: «Самое слово сатирический не должно бы находиться в предисловии <...> 1-я песнь просто быстрое введение».
Бестужев хотел от Пушкина сатиры политической, и от этого-то он и отбивался{19}. Однако легкий иронический, даже сатирический тон сопровождает Онегина до конца. Этот тон не оставляет Евгения полностью даже в печальной для него последней главе («Мой бестолковый ученик», «Признаться: то-то б одолжил», «Мой неисправленный чудак»). Еще в варианте 1830 г. (болдинском) сатирический тон был сильнее заметен, потому что за иронической VIII строфой 8-й главы («Все тот же ль он иль усмирился?»), — той строфой, где говорится о множественности «масок» Онегина, — не следовало возражение-защита (строфы IX—XIII): «— Зачем же так неблагосклонно» и далее, от «Блажен, кто с молоду был молод» до «Как Чацкий с корабля на бал». Строфы IX—XI прежде находились частью в «Альбоме Онегина» (первоначально входившем в 7-ю главу), где защита была вложена в уста самого обвиняемого, частью в тогда еще не выброшенной главе «Странствие», где они в форме несобственно-прямой речи также передавали мысли самого Онегина. В варианте 1830 г. после VIII строфы последней главы («Довольно он морочил свет. — Знаком он вам? И да, и нет») сразу шел выход Татьяны в бальную залу. В печатном варианте Пушкин обычно смягчал насмешливость, но, говоря словами предисловия к 1-й главе (якобы «от издателя»), роман всегда сохранял «наблюдения верные и занимательные» — «под покровом сатирической веселости».
Сатирическая поэма в духе «ювеналовских строф» не состоялась; да и вряд ли Пушкин, веселый, отходчивый, мог бы долго придерживаться этой манеры письма. Из горькой, острой политической сатиры, от которой «затрещала бы» Дворцовая набережная, ничего не осталось, кроме устно передававшегося «ювеналовского» наброска. Однако сатира была унаследована в «Онегине», и не просто в силу инерции той же (или почти той же) системы рифмовки и того же стихотворного размера, инерции поэмы, строфически организованной, что в тогдашнем восприятии Пушкина было свойственно байроновскому сатирическому жанру. Сатира на жизнь частную в романе была неизбежна потому, что хотя Онегин — портрет типичного молодого человека времени Александра I, но портрет этот — развенчивающий героя, ибо он изображен
С его безнравственной душой,Себялюбивой и сухой,Мечтанью преданной безмерно,С его озлобленным умом,Кипящим в действии пустом{20}.
(Гл. 7, строфа XXII; VI, 148)
Именно такой герой, как мы знаем, единственно и привлекал внимание Онегина (второй вариант черновика этой строфы — VI, 438): мрачный, губительный для окружающих Мельмот Мэтьюрина, мечтательный Рене Шатобриана, презирающий светскую чернь, эгоцентричный, со скованной волей Адольф Констана{21} и, конечно, разочарованный жизнью, погруженный в себя наблюдатель общественных страстей Чайльд Гарольд и другие байроновские герои, — или же, вернее, сам Байрон, как он себя в них изобразил (гл. 1, строфа XXXVIII; см. черновики: VI, 217, 244, 307, 439){22}. Главной маской Онегина была маска байрониста (так же как и для Кавказского пленника до него); но в романе объектом сатиры является не сама лишь маска, а более глубокая эгоистичная, безвольная, зависимая от модных страстей сущность пушкинского современника. Конечно, здесь не «ювеналов бич», а лишь легкая ирония, но все же образ героя сатиричен.