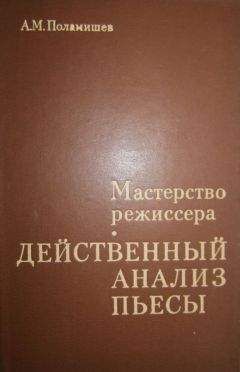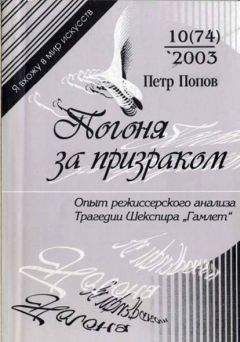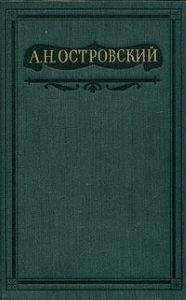Мар Сулимов - Режиссер наедине с пьесой
"Я не могу без смеха вашего голоса слышать... (с усмешкой). А вы, Леонид Андреевич, все такой же как были".
И неприкрыто забавляется бессильным возмущением Гаева, изумленного и подавленного степенью его наглости. А вот и с Раневской говорит:
"Если опять поедете в Париж, то возьмите с собой, сделайте милость. Здесь мне оставаться положительно невозможно. Что ж там говорить, вы сами видите, страна необразованная, народ безнравственный, притом скука, на кухне кормят безобразно, а тут еще Фирс этот ходит, бормочет разные неподходящие слова. Возьмите меня с собой, будьте так добры!"
Что это? Просьба? Куда там! Во-первых, это предъявленный Раневской счет. Это ведь она, не кто-нибудь, повезла его в Париж и сделала для него жизнь здесь невозможной. Так и расплачивайся за это, вези в Париж. Во-вторых, это точный и безошибочный расчет на то, что Раневская, опять-таки по неспособности отказать, не может не взять его. Ну и не без шантажа тут, конечно. Уж кому-кому, а Яше-то известна вся подноготная ее жизни в Париже. Здесь, в этот момент, не успела Раневская ответить ему - помешали. Но и так ясно, не дожидаясь четвертого акта, что могла бы она ответить.
Яша, свидетель парижской жизни Любови Андреевны, уверен, что она вернется туда, не может не вернуться. Все события здешней жизни подтверждают, что он не ошибся. И парижские телеграммы, которые сперва уничтожались, не глядя, теперь хранятся, читаются и перечитываются, и нежелание сначала даже слышать о Париже, потом все более и более определенные разговоры о нем - все это доказательства, что процесс "на возвращение" в Раневской идет правильно, как надо, и дело только в том, скоро ли, наконец, будет продано это чертово имение и отпадет последнее препятствие. Поэтому и засмеется бесстыдно Яша, когда какой-то старик скажет, что имение уже продано. Яша ждал этого момента. И это нетерпеливое ожидание, выслеживание того, как все движется к желаемому концу, составляет основу его сценического существования на протяжении второго и третьего актов пьесы.
Внешне Яша, очевидно, приятен. К тому ж поднаторел притворяться. То хорошим лакеем Раневской - ведь услужить ей, сохранять с нею добрые отношения, поддерживать в ней ощущение зависимости от него, а следовательно, и обязанности перед ним, в его интересах; то прикинется пылким ухажером, плененным сельской простушкой... Да чем угодно может он быть, если это принесет ему выгоду. Потому тем более отвратительно его хамское, сволочное отношение к старухе-матери, которая таскается сюда из деревни то поздороваться с сыночком, то повидаться бы, то, наконец, проститься. Эти бесполезные, не нужные ему визиты вызывают лишь его ярость. Отвратительны и его "морализирования" перед совращенной им девчонкой о "безнравственности" любви, о необходимости девушке "себя помнить". (Лопахин же те слова, хоть и в другом смысле, говорит Дуняше в начальной сцене. Заметим и запомним эту пока словесную рифму в речах Лопахина и Яши.) Чего уж тут удивляться омерзительной грубости и жестокости Яши по отношению к Фирсу, да и всей истории с больницей и с тем, как по его вине забыли Фирса в брошенном, заколоченном доме. Этот заключительный символический штрих имеет важнейшее значение в расшифровке смысла и выводов всей пьесы.
С Лопахиным Яшу автор сводит впрямую дважды: в первом акте Ермолай Алексеевич прощается с ним за руку, как с равным. В четвертом - предлагает ему выпить шампанского, пить которое с Лопахиным господа отказались. Думается, есть в этом сопоставлении начала и конца некая образная связь, разумеется, не прямая, не "перст указующий". Но некий знак, вдруг объединяющий столь несхожих негоцианта Ермолая Лопахина и лакея Яшу. Ведь духовное уродство Яши выросло из отсутствия нравственной почвы, из единственного для него внутреннего закона - вседозволенности в удовлетворении своих желаний, своей выгоды. Лопахин, пока помнит себя "мужичка", тянется к нравственным идеалам, руководствуется своей светлой мечтой. Они гарантируют его личностный рост. А предает он их тогда, когда дает волю инстинкту хищнической выгоды, и при явном выигрыше "пользы", терпит необратимую нравственную катастрофу. Не померещится ли тут еще одно чеховское "кривое зеркало", теперь уже в лице Яши?
Часть V
Когда мы уже поселились в мире пьесы, в душах ее героев, мы обязаны сосредоточиться на анализе событийной действенной структуры пьесы, на исследовании того, что происходит в каждой сцене, в последовательном развитии действия. А если сказать точнее - того, что должно происходить в нашем спектакле, так как здесь анализ данностей пьесы соотносится с нашей режиссерской сверхзадачей, и мы ищем, вскрываем, как может проявиться в данной сцене сквозное действие.
В пьесе все написано. Действие развивается по цепочке фабульных происшествий, событий. Достаточно внимательно и с большим или меньшим уровнем актерского мастерства разыграть их, чтобы получился иногда даже очень симпатичный спектакль. Но это может сделать и дилетант. Профессионализм же режиссера проявляется в умении выявить и сценически организовать то, что не лежит на поверхности, а скрыто в глубинах пьесы и стало предметом его художнического осмысления, т.е. его сверхзадачи и сквозного действия. Подготовке этой позиции и должен быть посвящен этап анализа, следующий за вживанием в пьесу.
И тут мы касаемся вопроса, который мне кажется одним из принципиально важных в подходе к режиссерскому анализу.
Станиславский рекомендовал начинать анализ с определения крупных событий, так как анализ фактов дается легче, чем попытка сразу проникнуть в область чувств и мыслей, заключенных в пьесе. Несомненно, это так. Однако мысль эту зачастую вырывают из контекста рассуждений и практики самого Константина Сергеевича и словно бы закрывают глаза на тот огромный труд познания пьесы, размышлений, работы воображения, который у него предшествовал анализу фактов. Достаточно обратиться хотя бы к "Режиссерскому плану "Отелло" (М.-Л., Искусство, 1945), чтобы это стало очевидным. "Технологический" анализ пьесы становится истинно содержательным и продуктивным лишь в результате громадной предшествующей работы, я бы сказал - работы души более, чем рассудка. В противном случае он умаляет работу воображения, исключает не только необходимость, но и потребность проживания режиссером перипетий драмы, иначе говоря, обездушивает и процесс работы, и его результат - спектакль. Никогда технологическое определение, "оярлычивание" чего бы то ни было в нашей работе не должно предшествовать всестороннему духовному постижению материала. Определение надо выстрадать, к нему надо прийти, порой долгим путем работы чувства и мысли. А формулировки... да Бог с ними, с формулировками! Важно, чтобы в сознании, в ощущении постоянно жило верное понимание того, что именно и почему является предметом творческого поиска.
В своем изыскательском пути Константин Сергеевич поначалу стремился к установлению жестких правил, нормативности, если угодно, догматизации этих правил. Развивая свое учение, в дальнейшем он шел ко все большей свободе, основывающейся на глубинных и широко понимаемых принципах. Это очень важно, но, к великому сожалению, часто недооценивается, а то и просто игнорируется и в педагогике, и в театральной практике, что в конечном итоге приводит к той самой догматизации метода, от которой сам Станиславский стремился уйти.
Подчеркну, что не жизнь пьесы должна выстраиваться по событиям, а события должны выявляться из создаваемого потока жизни.
Вчитываясь в пьесу, проектируя ее будущую сценическую жизнь, конечно же, мы не можем миновать осмысления опорных ее фактов, а следовательно, и выяснений событий. Ведь событие - это квинтэссенция смысла происходящего, это ключ к пониманию происходящего. А коли так, то уж волей-неволей наше сознание и подсознание будут работать на них, не только выявляя, констатируя их, но организуя и выверяя сценическую жизнь в соответствии с ними. Но "строить" мы должны жизнь, жизнь, а не события! Свободно, парадоксально, изменчиво и непредсказуемо текущую жизнь, в которой незначительное, бесследно проходящее, неразрывно сплетается с взрывами происшествий, иногда внешних, лежащих на поверхности, иногда глубоко запрятанных в тайнах души действующих лиц драмы. А внутренний наш "сторожок" подсказывает, где они, в чем они, эти самые происшествия с жизнями, с судьбами, с душами людей. Ведь - "жизнь человеческого духа"! Отметим, сказаннеое ни в малейшей степени не противоречит утверждению Станиславского, что в каждом моменте жизни есть событие. И уж тем более не посягает на значимость событий как организующего структурного фактора в построении спектакля. Однако торопливое определение событийного ряда загоняет нас в рациональное, неизбежно схематизируемое построение не жизни, а "целесообразного, последовательного, продуктивного действия" по поводу события. Извлекая события из исследования фактов, мы и остаемся, хочешь-не хочешь, в пределах логики фабулы. Несомненно, фабульные факты подсказывают нам происходящие изменения в развитии истории, перемены в поведении действующих лиц, смены целей их действий и т.д., то есть все то, что составляет характеристику понятия "событие". И - все-таки...