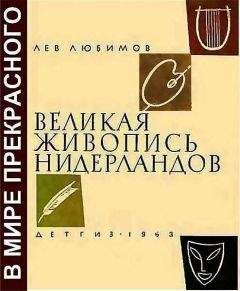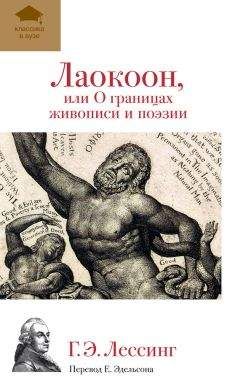Лени Рифеншталь - Мемуары
Начать съемки мы хотели у хижины Валло. Отправились в путь от Гран-Мюле в два часа ночи. Снег к тому времени подмерз. С шипами на ботинках и крюками, вонзающимися в лед, мы продвигались совсем неплохо. Уже в шесть утра были у цели. Разреженный воздух я переносила хорошо, вероятно, потому, что у меня очень низкое давление. Но Фанк и мужчины, которым пришлось нести тяжелый груз, страдали от одышки и головных болей.
Эта хижина тоже оказалась отвратительной дырой — для двенадцати человек места могло хватить, только если лежать вплотную другу к другу, точно сельди в бочке. Кроме льда, снега и промерзших одеял, здесь ничего не было, даже очага. Мы притащили с собой все, вплоть до посуды.
Но ландшафт! Домик окружали опаснейшие снежные валы и отвесные ледяные блоки, какие можно найти только в Европе. Беспрерывно слышался треск, лопались горные породы, лавины и торосы обрушивались с почти равными промежутками. Ледник изменялся каждый день. Был уже июнь, снег таял, и трещины заметно расширялись. Там, где еще несколько дней назад лежали большие ровные участки снега, теперь виднелись расселины, огромные и такие глубокие, что в них можно было упрятать Кёльнский собор или храм Карнака.[161]
Фанк, жаждавший зафиксировать эти картины на кинопленке, совершенно не задумывался об опасностях. И это сыграло с ним злую шутку. На несколько сотен метров ниже хижины Валло мы распаковали аппаратуру. Фанк шел немного впереди, чтобы найти интересные объекты, — и вот мы видим, как он, всего в каких-то двадцати метрах от нас, без единого звука, куда-то исчезает. Ледник проглатывает его. Наша небольшая группа замирает от ужаса — но только на несколько минут. Затем я вижу, с каким хладнокровием действует в подобных случаях штаб Фанка. Через несколько секунд в расселину уже брошен канат. Пока он опускался метр за метром, все прислушивались. Лица мужчин становились все более мрачными — и тут наконец-то до нас донесся глухой стук, все с облегчением вздохнули. Жив! Спасатели почувствовали, что канат натянулся, и стали что было сил тащить его. И вот появляется голова Фанка. Все еще с сигаретой во рту, которую тот во время падения зажал в зубах. Спокойно, как ни в чем не бывало, он выбрался из расселины, и съемки были продолжены.
Из-за резкого ухудшения погоды мы стали узниками хижины. Запасы продовольствия практически закончились. Остались только хлебные корки да трижды подогретый суррогат кофе. Вскоре настроение мужчин стало невыносимым, что было особенно тяжело. Правда, никто из них не мог в отношениях со мной перейти определенную черту, но долгое воздержание молодых мужчин находило выход. Каждый старался перещеголять других, рассказывая сальные анекдоты. Некоторые сооружали вокруг хижины недвусмысленные сексуальные символы из льда и снега. Это было отвратительно. Один из молодых людей вообразил, будто влюблен в меня, угрожал самоубийством и хотел броситься в пропасть. Фанк тоже не переставал мечтать, каждый день подсовывая мне записки в прозе или стихах, становившиеся все более эротичными. Я почувствовала большое облегчение, когда наконец можно было на два дня спуститься в Шамони.
Без страховки, как при съемке почти всех фильмов Фанка, мы стремительно мчались с высоты 4400 метров к горной станции, мимо гигантских расселин, по узким снежным мостам, отвесным склонам, по рыхлому снегу и льду. Мужчины спускались с такой головокружительной скоростью, что я не поспевала за ними, но со мной рядом всегда был один из наших проводников, швейцарец Бени Фюрер.
Последний крутой склон над хижиной Гран-Мюле представлял собой чистый лед. Несмотря на стальную окантовку, лыжи сделались неуправляемыми. Я рухнула вниз с высоты 50 метров и осталась лежать на снежном мосту, построенном через огромную трещину, успев увидеть, как лыжная палка исчезает в пропасти. Меня охватил смертельный страх. Я не решалась шевельнуться, каждое мгновение мост мог рухнуть. Бени лег на живот, протянул свои лыжные палки и медленно перетащил меня через мост.
— Ну, мы и вляпались, — единственные слова, которые он произнес после этого случая.
Через два дня снова подъем на гору. Предстояло прежде всего провести съемки лавин на леднике Боссон, который к этому времени уже настолько подтаял, что при подъеме к хижине, чтобы перебраться через трещины, нам пришлось положить восемь лестниц. Страх перед опасностью, в которой мы непрерывно находились, постепенно притупился. У нас было лишь одно-единственное желание — как можно быстрее выбраться изо льдов.
Наступал месяц лавин. Зепп Рист в своей роли метеоролога должен был спускаться на лыжах без палок; по сценарию, у него были обморожены руки. Для такой езды требовалось величайшее присутствие духа: перед расселинами нужно было поворачивать лыжи так, чтобы артиста при этом не сильно заносило вбок. Снимая одну из сцен с Ристом, мы увидели, как на заднем плане от основания скалы откололась гигантская глыба и грохоча с невероятной силой, обрушилась на наш ледник. Операторы с железным спокойствием продолжали работу, снимая, как за спиной Риста с большим шумом мчится лавина, а он спасается от нее. Нам бежать было поздно. По леднику катилась огромная масса льда, и можно было только молиться, чтобы лавина рассеялась, не дойдя до нас.
Снежная пыль становилась все плотнее. Никто не отваживался вымолвить ни слова. Напряжение спало лишь после нескольких минут тишины. Прошло почти четверть часа, пока мы снова смогли хоть что-то видеть. В этот день мы прекратили работу. Все уже по горло были сыты снежными приключениями.
Режиссер отыскал мощный ледовый карниз, который каждую секунду мог отломиться. Ничего подобного еще никогда не снимали на кинопленку. Малые ледовые карнизы можно было взрывать, но таких размеров — нет. Фанк дал Шнеебергеру поручение оставаться у камеры до тех пор, пока карниз не оторвется. Снежная Блоха час за часом не трогался с места, но потом ему все же пришлось на какую-то минуту отлучиться — бывает необходимость, которая сильнее нашей воли. И как раз в это мгновение лед рухнул. Шнеебергер в испуге выскочил из домика, метнулся к камере — но не мог же он снять уже свершившееся! Ему было не до веселья. Он буквально рассвирепел.
Настал день съемки моей последней сцены во льдах Монблана. Я должна была перейти по лестнице расселину шириной пятнадцать метров. Для большей выразительности режиссер выбрал очень глубокую трещину. Мне было страшно и хотелось увильнуть от съемки. Мои коллеги уже заключили пари, что я не пойду по лестнице. На таких пари меня, как правило, и можно было поймать. Боясь показаться трусихой, я на пути к расселине представляла себе, как это просто — перебежать по такой лестнице: я ведь подстрахована канатом и не могу упасть глубоко. Но вся загвоздка в этом коротеньком слове «глубоко». Можно упасть на глубину десяти — пятнадцати метров и разбить голову об отвесные ледяные стенки. Я пыталась прогнать эту страшную мысль и внушала себе, что не упаду, если не стану смотреть вниз.
Все было готово. По команде «Внимание, съемка!» сделав первый шаг, почувствовала, как лестница под ногами начинает вибрировать. Раскачивание становилось тем сильнее, чем ближе я подходила к середине. Ко всему прочему требовалось, чтобы, обернувшись назад, я прокричала что-то людям, следовавшим за мной. Я же собрала в кулак всю свою волю, чтобы от страха просто не упасть на лестницу. Но все обошлось, и Фанк заполучил последнюю сцену.
Вечером я листала книгу посетителей хижины. До этого мне не хотелось заглядывать туда, ведь в ней указаны несчастные случаи на Монблане и его ледниках. И я почувствовала, как в душе у меня рождается горячая благодарность за то, что некая счастливая звезда хранила нас от пополнения этой печальной альпийской хроники новым, хотя бы одним-единственным случаем.
«Бродяга с Монблана»
Когда мы еще производили последние съемки в районе Монблана, в каком-то иллюстрированном издании появились наши фотографии. Один берлинский старшеклассник, увидев эти снимки, страстно захотел пережить приключения вместе с нами. Он сбежал из школы, оседлал велосипед и, имея при себе всего двенадцать марок, добрался до хижины Дюпюи, но уже без единого пфеннига в кармане. Бедный юноша, в течение девяти дней крутивший педали от Берлина до Шамони, один-одинешенек перебиравшийся через расселины в леднике (от его башмаков остались не подошвы, а одно название), увидел на площадке лишь остатки продуктов, обрывки кинопленки и следы приземления самолета. Он пробыл в хижине два дня. Затем, полуголодный, вернулся в Шамони, где ему сказали, что мы работаем сейчас на другой стороне Монблана.
Найдя хижину Гран-Мюле, тихонько забился в угол и молча наблюдал за нами. Выглядел он бродягой, и мы не знали, что с ним делать. Фанк подарил ему пару башмаков — его подметки были подвязаны бечевкой. На следующий день юноше доверили носить поклажу, в этом качестве он заработал несколько франков. Съемки закончились, «бродяга с Монблана» снова сел на велосипед и поехал в Берлин.