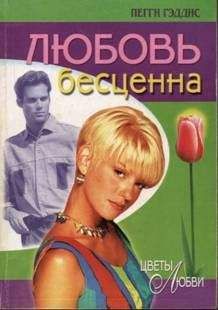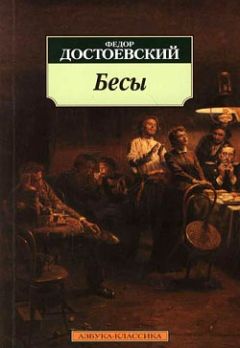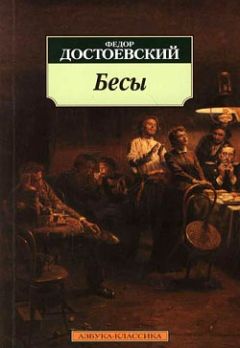Уильям Гэддис: искусство романа - Мур Стивен
Хотя религиозная природа протестантской этики забыта в наше время всеми, кроме фундаменталистов, уверенных, что богатство — это знак божественной благодати, она продолжает оказывать губительное влияние, о чем отлично знает Джек Гиббс. «Пуританин хотел быть профессионалом, — пишет Вебер, — мы должны быть таковыми» [139]. Однако сложность найти призвание, найти что-то, что стоит делать, — проблема, которая мучает многих персонажей Гэддиса. Уайатт, как и Отто, и его друг Эд Фисли, поднимает этот вопрос в «Распознаваниях», но Гиббс видит проблему в более широком историческом контексте: «Вся проклятая проблема — в падении от статуса к контракту», то есть «что бывает когда человек переходит из средневекового общества построенного на статусе к современному обществу построенному на контракте». В известном эссе о Толстом и Кафке Филипп Рахв обрисовывает последствия этого сдвига:
Статус — это синоним выражения «состояние благодати»; и у того, у кого есть дом — у того есть и статус. Дом — эта космическая безопасность, священная составляющая статуса, — не мифическая или психологическая, а историческая реалия. Он существует как образ жизни, несмотря на неисчислимые модификации, вплоть до буржуазной эры, когда организация человеческой жизни на основании статуса сменилась организацией на основании свободного контракта. Новая, революционная модель производства расколола единство духовного и мирского, превратила все вещи в товары потребления, а все традиционные общественные связи — в добровольно-контрактные отношения. Человек в этом процессе был обездушен [sic] и общество атомизировалось; и именно на фоне этой огромной трансформации общественного порядка становится исторически понятным значение «Смерти Ильича» и Кафки [140].
На этом же фоне страдают проницательные персонажи «Джей Ар». Многие ли в наши дни могут назвать свою работу «призванием»? Лишенные безопасности и статуса святости традиционного ремесла — когда, например, сын кузнеца наследовал кузницу своего отца, — многие добровольно подписывают договор, чтобы заниматься тем, чем едва ли стоит, в особенности — усердно, и ставят на место социальных и религиозных связей преданность компании (как настаивает Хайд). «Нет нет погоди послушай, — говорит Гиббс Эми, — впервые в проклятой истории у нас так много возможностей делать столько всего что не стоит делать».
Людям творчества у Гэддиса трудно не только в поисках того, что стоит делать, но и, собственно, в реализации задуманного. В самые мрачные моменты Гиббс, Эйген и Баст бьются над той же дилеммой, что привела Шрамма к самоубийству: «Стоило ли делать то что он хотел даже если он не мог? Стоило ли писать что угодно даже если он не мог?» В экономике, все еще ведомой протестантской этикой, люди творчества трудятся под гнетом пуританского предубеждения относительно творчества — недостойного призвания, в лучшем случае легкомысленного, в худшем — греховного и кощунственного [141]. Например, отношение губернатора Кейтса к деятелям искусства напоминает отношение, которое Готорн приписывал своим пуританским предкам в «Таможне» — вступительном очерке к «Алой букве»: «Что за занятие он выбрал! Как прославить этим Господа? Как послужить времени и поколению своему! Это ж все равно что пиликать на скрипке!» [142] Сравним это с признанием Давидоффа Басту, что и он когда-то начинал роман: «Наверное самую малость завидую вам ребята с даром к искусству я эту роскошь себе позволить не могу так и не дописал, не мог просто спокойно сидеть и развлекаться». Когда в обществе искусство отвергается как роскошь, развлечение, стоит ли удивляться, что Шрамма довели до самоубийства, а остальных — до парализующих сомнений в себе? Если «благословлен тот, кто нашел себе дело» [143], как язвит Гиббс (цитируя Карлейля), тогда неспособные делать то, что, как им кажется, делать стоит, прокляты — а это, в свою очередь, придает повсеместному использованию Гиббсом и Эйгеном слова «проклятый» зловещий теологический подтекст.
Кейтс, Давидофф, Хайд и многие другие в романе смотрят на деятелей искусства как на вредных невротиков и убеждены, что если общество избавится от них, то сможет лучше заниматься бизнесом. Гиббс документирует вклад технологий в достижение этой цели, устраняющей «оскорбительный человеческий элемент» из искусства. Технологии варьируются от таких безуспешных предприятий, как, например: «В девятнадцатом веке немецкий анатом Иоганн Мюллер взял человеческую гортань, оснастил струнами и гирьками вместо мышц и дул в нее ради мелодии […]. Думал оперные компании смогут скупать гортани мертвых певцов и восстанавливать чтобы исполнять арии бесплатно сразу бы выкинули всяких проклятых артистов из искусства, только портят все на своем проклятом пути вот в чем суть искусства», до успешных изобретений вроде пианолы («играет сама по себе стреляет пианиста»), а уже в наше время, как хвастается Хайд: «Записи любой симфонии можно заново воспроизвести почти в идеальном качестве, величайшие книги в истории можно купить в аптечном магазине». Кейтс настаивает, что книгоиздание — наихудший бизнес в Америке, но допускает: «Вычеркните десять процентов роялти что загребают эти мерзавцы вдруг еще прозреют».
Но только «эти мерзавцы» способны искупить протестантскую этику, восстановить человеческий элемент в обществе, где «ценность», «милосердие» и «добрая воля» в основном существуют в виде налоговых терминов, где «литературой» зовутся брошюры об инвестициях и где наиболее распространенная метафора — «человеческая машина». Устало уверяя своего адвоката Битона, что она знает об отсутствии права голоса у привилегированных акций, рассерженная Эми заявляет:
— Не пьет не танцует не курит не пьет за женщинами не бегает, даже не…
— Прошу прощения?
— а нет ничего Мистер Битон все это просто, просто так абсурдно так, безжизненно, я не могу…
— Прошу я, миссис Жубер я не собирался делать из этого эмоциональную проблему…
— Но это она и есть! Это эмоциональная проблема просто она и есть! потому что там нет никаких, там нет никаких эмоций только сплошь реинвестированные дивиденды и уклонение от налогов вот и все, уклонение так всегда было и так всегда будет и нет никакой причины чтобы это менять разве нет? что это вообще может измениться?
С помощью Вебера можно расширить упрощенную точку зрения Эми и сказать, что так было всегда с тех пор, как пуританство привило Америке «капиталистический образ жизни», который «обратился всей своей мощью против одного: спонтанного наслаждения жизнью и всего, что она может предложить», и нет никакой причины, чтобы это менялось, пока творческие люди остаются вне закрытой системы Америки. Ближе к началу романа Гэддис вводит второй закон термодинамики, чтобы напомнить читателям о «статистической тенденции природы к беспорядку, тенденции к возрастанию энтропии в изолированных системах». Периодические вливания энергии и разнообразия важны для борьбы с энтропией и однородностью, а искусство — главное средство этих вливаний в «систему» культуры. Продолжая механистическую метафору, социальное искусство вроде работ Гэддиса дает бесценную «обратную связь» — по определению Винера, «метод управления системой путем включения в нее результатов предшествующего выполнения ею своих задач». Исторический обзор Гиббса в «Агонии агапе» и сами работы Гэддиса оценивают результаты выполнения задач Америки. «Ну и бардак», — лаконично подытоживает один персонаж-ребенок.
УСТАМИ МЛАДЕНЦЕВ
Хотя наиболее полновесная социальная критика в романах Гэддиса исходит от взрослых персонажей, он следует американской традиции вкладывать наиболее резкую критику в уста детей. Если готорновская Перл — первый в американской литературе несовершеннолетний критик пуританского лицемерия и его социально-экономических последствий, то она возглавляет целый детский крестовый поход, включающий твеновского Гекльберри Финна, джеймсовских девочек и андерсоновских мальчиков, одаренных детей Сэлинджера, Глазастика Финч из книги Ли и пинчоновскую банду Спартака. Гэддис видоизменяет и расширяет традиционное литературное применение ребенка как «пробного камня, судьи нашего мира — и упрека со стороны неувядшей свежести проницательности, неиссякающей энергии, неподкупной наивности», подхватывая традицию, блестяще проанализированную Лесли Фидлером: детской невинности «как своеобразного нравственного идиотизма, опасной свободы от ограничений культуры и обычаев, угрозы порядку» [144]. В своих лекциях Гиббс говорит ученикам, что «порядок — это просто тонкое, зыбкое условие, которое мы пытаемся наложить на базовую реальность хаоса», и гэддисовские дети находят дыры в разных порядках, что взрослые пытаются наложить на общество.