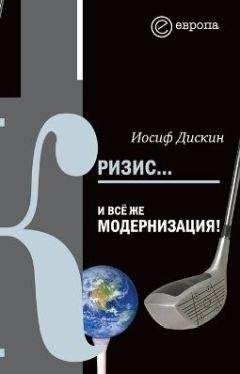Сергей Максимов - Лесная глушь
Достаточно смерклось, и ребята отправились в подвал харчевни исполнить обещание — походить себя чайком-кипяточком.
Этим начались похождения Петрухи: не было ни одного праздника, когда бы не пил он чаю, от которого недалек переход к меду и пиву. Конечно, на зарабатываемые деньги не разгуляешься, потому что известна залишняя копейка мастерового: только и хватит разве чаю напиться. Выпрошен гривенник на баню, из него три копейки отдано за беленький медный билетик, а остальных, в складчине, хватит раза на два напиться горяченькой водки из-под невской лодки.
Незаметно за длинной порой гороху, гречневой каши с конопляным маслом да тертой редьки с лавочным квасом и луком наступило и то время, когда хозяин оделил трех своих работников, которые были постарше, в том числе и Корегу, деньгами, давши им по рублю серебром на гулянку. Молодцы побрели опять на качели, но не дошли туда, по простому обстоятельству. Дело это вот как случилось.
Идут ребята по Гороховой и толкуют всякий вздор, как взбредет в голову.
Видят, в одном окне хитрая штука: торчит деревянная с золотом птица и вертится кругом, а в зубах у ней бумажник, в котором господа носят деньги и сигары.
— Ведь вот, братцы! — начал Петруха, — кому какой талан дается: — Хоть бы и наше дело теперича взять: поди заставь плотника шпалер натянуть; ан нет, шалишь — не дотянет. Намнясь в Лесном на даче и сами обойщики клеили, да что вышло? Нас же, гляди, позвали, потому, значит, что все отклеилось. Выходит, что на то: мы маляры, нам и честь предлежит. Не так ли я, братцы, говорю?
— Умные речи хорошо и слушать. Как же, коли не так? Штукатуры, вишь, еще с нами в линию лезут! Да где им, глиняным лбам, сапогам плетеным, такой узор подвести, как я вечор на печи вывел? Мрамор, братец, настоящий мрамор, — никак, значит, не отличишь. Сам ведь видел, Петруха. Хорошо ведь было?
— Что и толковать, паря? Известно, штукатура одно дело: положи, выходит, настилку, примерно, — да и ступай подальше: без тебя, значит, сделаем. Так-то и обойщика дело, чтоб около карет да колясок возиться. А покажи-ка мне эту штуку хоть один раз: подведу, значит, так, что любо да два. Коли на правду дело пошло, так я бы обойщику только и дела давал, чтоб к плотничьим сапогам подошвы однотесом подбивать!.. — острил Матюха, к единодушному смеху товарищей.
— Стой, ребята!.. — громко крикнул косолапый Тихон, незаметно увязавшийся с малярами и до времени слушавший их тары-бары. — Коли так толковать будем, так, тово и гляди, попадем на площадь, а ведь дорога привалы любит и идет-то вон прямо туда! — И дворник указал на одну дверь.
— Нет, я не пойду… — начал Петруха.
— Что же, брат, так?
— Вишь, дело-то это впервые будет со мною, так оно маненько опасно. Коли хотите знать, так я не знаю, как и двери-то туда отпираются.
— Вот, лихая беда узнать единова, а уж попадешь, так оттуда силой не вытащишь. Нешто, Петруха, не пивал еще водки, а, кажись, брат, было дело? — допытывался Матюха.
— Ну, брат, нет! уж этим, значит, ты меня не кори: в чем другом, а этому греху не причастник. Уж, брат, и не кори, — дело небывалое…
— Да идешь, что ли, а то одни пойдем. Смотри, чтоб после попреков не делать. А, Петрух?
— Претит, ребята… неохота!..
— Что это, Петруха, нешто рот у тебя сахарный и водка тебе не по губам?
И ребята ввалились с Петрухой, куда желали. Немного погодя Петруха очутился впереди всех и требовал водки.
Долго морщился Петруха и вздрагивал для потехи всеми членами, словно мороз пробегал мелким горошком по телу: и плечами крутит, и ухает с перекатами да с одышкой; наконец и выпил и начал после оплевываться.
Спустя полчаса Петруха предлагал песни петь. Товарищи решились идти в полпивную, и драл же там Петруха нескладицу своим зычным разносистым голосом! Об одном жалел косолапый дворник, что забыл захватить рукавицу свою, в которой носит жильцам дрова, чтобы закрыть ею, как он называл, Петрухину прорву.
Таким образом издержали ребята все до последней копейки. После этого раза стал Петруха как будто и не тот: стали заводиться за ним и прогульные дни и неизбежные хозяйские вычеты, споры и другие неудовольствия. Начала у него и голова кружиться, когда случалось ему лезть на леса или козла, и синего цвета, бывало, не отличит от белого, а вместо того, чтобы влезть наверх, у Петрухи зачастую подкашивались ноги и он всем туловищем ложился на пол, к общему смеху товарищей. Только хозяйский обычай — не задавать много денег работнику — мешал всем затеям Петрухи, который стал уже теперь просто Петром — у хозяина и Петром Дементьевым или просто Корегой — у товарищей. Наконец стал замечать хозяин, что Корега начал запивать, и совой глядит, и работа не мила, словно впервые спознался с ней. А там уж и слышит сторонкой, что работник начал новых хозяев присматривать, о ценах справляться. Вот он и сам пришел наконец и плачется.
— Из деревни письмо, — говорит, — получил; бают, овин перестраивать надо, на дворе навес настилать новый. Пособи, Кузьма Петрович! заслужим твоей милости, коли не ноне, так на будущую весну пригодимся. Дай, — говорит, — двадцать рублев: до зарезу нужно. А то хоть в гроб ложиться, — так впору. Такая-то напасть подошла!
— Нет денег, — говорит хозяин, — вчера последние вашим роздал. — А сам смотрит на работника, да так смотрит, что смекает тот, что и деньги есть, да дать не хочет: не верит ему.
— Коли так, Кузьма Петрович, — говорит Петруха, — так рассчитай меня; кажись, там еще что-то доводится. Уж я к Андрею Фомичу пойду. Бери, говорит, пачпорт да приноси — тридцать рублев дам, говорит.
Как бы то ни было, но Петруха расчет получил немедленно. Конечно, этот расчет и весь-то состоял из полтинника, да и Андрей Фомич дал ему за остаток лета всего только десять рублей, но все-таки Петруха простился с прежними товарищами, тяжело вздохнул, махнув рукой, и побрел на новые нары.
Андрей Фомич был обстоятельнее и крутее Кузьмы Петровича: он просто не дал Кореге ни копейки вперед и пригнал дело к тому, что тот поневоле должен был работать так, что сам хозяин прихвалил его. Ясно, что Корега наконец взялся за ум и нечаянно сохранил заработанные деньги. Получивши их, он отослал в деревню; сам хозяин и письмо написал, сам и деньги отнес на почту. Мало-помалу вбивался работник в хозяйскую доверенность и даже получил еще три рубля прибавки.
Осенью стал Корега истолковывать и о том, как бы в деревню справиться, откуда уже начали наказывать ему, что пора-де, Петр, и на побывку прийти: шестой год в Питере живешь, а как уехал туда, с тех пор и не видали, да и отписываешь редко: возгордился, что ли? — кто тебя знает. И мир толкует, что «пора-де, Дементий, оженить сына: однолетки его почесть все хозяйками обзавелись, а кой у кого уж и ребятишки попискивают. Пусть приедет парень да посмотрит, а девок у нас, кажись, не занимать стать: сам ты это, Дементий Сысоич, знаешь».
«Знать, тому и быть, чтоб в деревню ехать, — думал Корега. — Ведь и то сказать — не век же бобылем по свету таскаться; посмотрю-погляжу, авось невест и на мой пай хватит. Да вот хоть бы и Матвеева Матренка, коли не померла: знатная, поди, девонька вышла, право знатная!»
И в воображении жениха рисуется облик невесты: полная, румяная девка — кровь с молоком, и брови дугой и словно бор густые, а из-под них смотрят черные большие глаза. Идет она с работы вместе с товарками, косы да грабли на плечах несут; поют девки песни, а Матрена шибче всех задирает, почти одну только и слышно ее, голосистую.
Улыбнулся Корега, укладываясь на нары, и снится ему свой, деревенский, праздник: все девки собрались и ведут хороводы; ребята плотной стеной окружили их и играют, кто на балалайке, кто на гармонии. Вот Матрена, плотная, рослая — гладыш-девка, вышла на середину и разносисто и громко поет знакомую песню, а сама ходит воробушком. Откуда потяпки такие, откуда стать и посадка! Мокрая курица перед нею порука ее, хоть и эту хвалят ребята.
Любо молодцам, толкают они друг друга в бочок, пальцами на Петруху указывают и кричат ему громко, на всю улицу: «Ишь, гляди, ребята, девка Корегу полюбила, сговор был, а все оттого, что в Питере живет да подарков разных навез ей с отцом, с матерью. Вот и сошлись в пожеланиях. Эй, Корега, счастлив, братец, ты!»
Может быть, и еще лучше бы приснилось Кореге, если б только ночь у путного человека была подлиннее, а то так коротка, что не успел Корега и налюбоваться Матреной. Как встрепенулся утром, так и побрел к хозяину, чтобы застать его дома.
— А я к тебе, Андрей Фомич! Пусти в деревню побывать. Назад вернусь — к твоей милости приду, коли не противен стал.