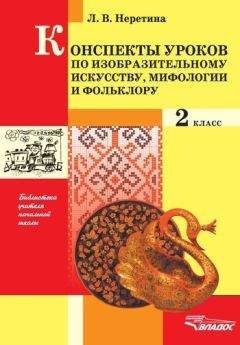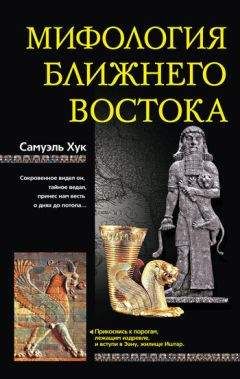Елеазар Мелетинский - Поэтика мифа
Стремясь найти мифы и особенно ритуалы у любых писателей, представители ритуально-мифологической критик» выискивают их и у Конрада (К. Розенфильд и С. Хайман анализируют его произведения в ритуальных терминах), у Вирджинии Вулф (Джозеф Блоттнер пытается доказать, что параллели с античной мифологией позволяют обнаружить у нее большую связность в сюжете), у Марка Твена (И. Кокс находит «инициацию» в «Гекльберри Финне»),. Томаса Харди (Л. Кромптон), Готорна (П. Б. Мэррей анализирует использование им метафор и символов греческого календарного мифа), Крейна (Дж. Харт также обнаруживает у него мифические метафоры и символы, мифологему инициации), Торо (У. Б. Стейн уточняет его связи с античными мифами), Китса (чьи персонализованные символы, по Р. Харрисону, весьма близки общим символам мифологии), Теннисона (опирающегося, по Дж. Р. Стенджу, на античные календарные мифы), Агриппы д'Обинье (в работе Дж. Т. Нотнейгл), даже у Стендаля, Бальзака (В. Трои видит в Жюльене Сореле и Люсьене де Рюбампре тип «козла отпущения», Д. Дюран интерпретирует на мифологический лад «Пармскую обитель») и Золя (где Ф. Уолкер обнаруживает мифологические символы потопа и нисхождения в преисподнюю, а также пророчество о золотом веке в «Жерминале»)[106].
Для того чтобы найти ритуально-мифологические модели в новой и новейшей литературе, было недостаточно обращения к литературным традициям, восходящим в конечном счете к забытым ритуалам. Поэтому нельзя было просто продолжать ритуалистическую фрейзеровскую линию, даже подкрепленную теориями Малиновского, Дюркгейма, Леви-Брюля, Кассирера и других ученых, показавших жизненную силу и всеобъемлющую роль мифов в первобытной культуре. Необходимо было исходить из вечно живой мифологической почвы в самой художественной фантазии, в психике писателей. Такой подход к мифу литературоведы нашли в психоанализе, особенно в теории архетипов Юнга. Поэтому «школа» сформировалась именно как синтез генетического ритуализма Фрейзера и кембриджской группы с юнгианством.
Как мы знаем, ритуалисты создали сильно абстрагированные схемы, объединяющие инициации и другие «переходные обряды» с аграрными культами умирающих и воскресающих богов и с ритуалом обновления царского сана через символическое умерщвление (первоначально реальное) и воскресение царя-колдуна (откуда мотивы «калифа на час» и «козла отпущения» ритуального заместителя) и т. п. Весь этот комплекс временной смерти и обновления (нового рождения) теперь с помощью юнговских архетипов, и в частности архетипа нового рождения, приобрел как бы общечеловеческий, внеисторический, психологический смысл и тем самым окончательно перестал быть «пережитком». Справедливость требует признать, что в процессе синтезирования ритуализма и юнгианства акцент на ритуале (в смысле его приоритета, над мифом) сильно ослабел и что, кроме того, следование юнговским принципам не обязательно влекло за собой принятие всей совокупности его построений. Как мы увидим, Фрай, например, и фрейзеровский ритуал, и юнговский архетип понимает идеализированно-отвлеченно.
Мы неоднократно упоминали о значении художественной практики мифологизирующих писателей для развития ритуально-мифологической критики. Как будет показано в последнем разделе нашей книги, эта художественная практика уже опиралась на ритуализм в сочетании с психоанализом, в частности юнгианским. Не удивительно, что ритуально-мифологическое литературоведение контактировало и с мифологами, имеющими опыт такого синтеза в рамках этнологии. Это, в частности, относится к Дж. Кэмпбеллу, который предложил юнгианскую интерпретацию теории «переходных обрядов» Ван Геннепа (см. прим. 64).
В вышеназванных неомифологических интерпретациях эпоса юнгианская концепция Ш. Бодуэна конкурировала с чисто ритуалистическими, а в работе X. Циммера о рыцарском романе обе эти концепции дополняют друг друга, что типично для направления, в котором развивается ритуально-мифологическое литературоведение. В упоминавшихся статьях очень известного американского критика В. Троя о Стендале (1942) и Бальзаке (1940) идет речь о «козле отпущения» не в плане сознательного прямого использования древней ритуальной модели, а исходя из универсального архетипа. Самый юнгианский термин в данных статьях не фигурирует; В. Трои чаще прибегает к фрейдистской фразеологии вплоть до «эдипова комплекса», который приписан им Стендалю, но в других случаях Трои охотно использует Юнга. Трои считает, что герои Стендаля и Бальзака выступают в той же социальной роли, в которой в античном обществе функционировали «козлы отпущения», т. е. как единичные жертвы, чья гибель оберегала или очищала общество. Жюльен Сорель, как считает Трои, раздвоенная личность, сочетающая чувствительность и демонизм и страдающая от социального унижения; он нечто вроде романтического изгоя, прославляемого в качестве «священного» преступника, который в истории своего личного подъема и падения видит и демонстрирует образец современной ему культуры в целом: будучи выдающимся индивидом, чьи таланты ускоряют его гибель, Жюльен сам берет на себя вину, которая в индивидах и обществах является результатом нарушения равновесия между охранительным принципом традиционной морали и интересами или мотивами эгоистической воли. В его похоронах в гроте Трои видит мифологическую черту (ср. Эдип, Ипполит). В качестве «козлов отпущения» Трои рассматривает также Рафаэля («Шагреневая кожа») и Люсьена де Рюбампре у Бальзака, причем считает, что именно поэт, художник является типичной «жертвой» опять же благодаря своей чувствительности, пониманию моральных или религиозных ценностей, способности страдать и быть трагичным. Трои подчеркивает, что Люсьен «козел отпущения» в подлинно религиозном смысле, подобно тем, кто берет на себя грех существования (чему соответствует имплицитная установка Бальзака на возрождение религии и любви). Трои противопоставляет Бальзака как автора «Человеческой комедии» Данте с его «Божественной комедией» в том смысле, что Бальзак не обращается к традиционным символам, хочет освоить научное мировоззрение и создает свою «мифологию» из материалов исторических.
Расширившееся благодаря практике ритуально-мифологической литературной критики понятие «мифа» постепенно распространилось на такие широкие, чисто литературные обобщения, которые у нас иногда называют «вековыми образами» вроде Дон Жуана, Фауста, Дон Кихота, Гамлета, Робинзона. В этом самом смысле, например, Ян Уотт говорит о мифологичности Робинзона Крузо, сравнивает его чисто фигурально с мифологическими культурными героями[107]. Однако применение понятия «миф» к подобным литературным сюжетам и типам объясняется не только их предельной обобщенностью, но и тем, что они послужили «парадигмами» для последующей литературы, тем, что попытки художественной интерпретации тех же художественных типов возникают все вновь и вновь. Таким образом, расширение понятия «миф» выражается, с одной стороны, в отказе от сознательной ориентации на древние традиции и на использование с новыми целями привычных образов подлинной мифологии, а с другой – наоборот – в приравнивании всякой традиции к традиции мифологической.
Некоторые современные литературоведы совершенно уравнивают всякого рода «префигурацию», т. е. использование как традиционных мифов, так и ранее созданных другими писателями литературных образов, а также исторических тем и сюжетов (в этом сказывается и влияние установок «новой критики», и отражение самой новейшей художественной практики). Все это, вместе взятое, принято называть «мифологизмом». Так, например, Т. Д. Уиннер[108] в статье «Миф как художественное средство в произведениях Чехова» возводит «Дуэль», «Княгиню» и «Чайку» к мифу о Нарциссе, «Душечку» – к «Амуру и Психее» Апулея, «Черного монаха» – к Фаусту, Треплева из «Чайки» к Гамлету, а «Попрыгунью» – к Анне Карениной, причем, как это явствует из самого заглавия статьи, все эти виды «префигурации» (мы не вдаемся в критику этих весьма спорных частных предложений самих по себе) рассматриваются как мифологизирование. Джон Уайт в содержательной книге о мифологизме в современном романе[109] в качестве примеров «префигурации» указывает не только на обращение, явное или скрытое, писателей к подлинным мифам об Орфее, Эдипе, Одиссее, Оресте, Энее, Каине и Авеле и т. д., но также к образам Дон Жуана (у Б. Бро-Фи), Фауста (у Т. Манна, Булгакова, Дж. Херси), Отелло и Ромео (О. Хаксли), леди Макбет (Лесков), Паоло и Франчески (Г. Э. Носсак), короля Лира (Тургенев) и т. п. В то» же ряду оказывается Треплев из чеховской «Чайки», отнесенный Уиннером к «Гамлетам»; Уайт указывает на повесть М. Хэрриса «Треплев», вышедшую в 1968 г.
Бегло обрисованная нами литературно-критическая практика, как уже неоднократно отмечалось, исходит как из художественной практики, так и из определенных теоретико-литературных концепций, в свою очередь опирающихся на этнологические и психологические. По крайней мере некоторые представители ритуально-мифологического литературоведения во многом базируются на принципах «новой критики». Обратимся теперь непосредственно к основным теоретическим исследованиям ритуально-мифологического толка[110].