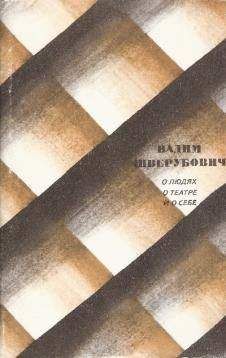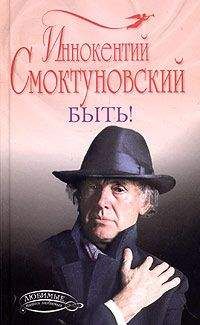Ольга Егошина - Актерские тетради Иннокентия Смоктуновского
В сцене семейного суда над братом Степаном, чаще называемым в семье прозвищем Степка-балбес, промотавшим наследство, Смоктуновский выделяет несколько планов, которые «держит» его герой. План первый: дело, для которого собрали:
«Наступил момент, когда одного из двух братьев — убрать, увести от наследства, И потому не позволю матери быть непоследовательной».
Идет первая битва за наследство и власть, и ее надо выиграть, провести, продавить свою стратегию решения ситуации:
«Обокрасть «балбеса», и второе избавиться от него уже навсегда, т. е. убить».
Вторая линия: понять, что происходит? Не разыгрывает ли мать спектакль, устраивая сыновьям проверку? Главное — не раскрыться, не дать себя подловить:
«Предложение маменьки рассудить ее со злодеем; новый фортель с ее стороны. Не участвую в обсуждении.
Не вступать.
Ну, что ж — подавать реплики в этом скверном спектакле».
Но за всей игрой и делом постоянно, кожей, ощущение опасности:
«Я себя ограбить не дам. Она хочет избавиться от Степана, это значит — она начнет эту линию избавления, т. е. и от меня.
Опасность.
Все, что хочется ей, — не хочется нам (братьям) — мне».
И именно поэтому требуется в этом скверном спектакле играть абсолютно всерьез, самого себя убедив, что одна цель, и никаких «задних» мыслей:
«Не обмануть мать, не наказать Степана, но оберегать мать.
Я знаю, что вы, маменька, считаете мою искренность и любовь к вам ложью…
Но тем не менее…».
Задав себе на оборотном листе многоплановую партитуру роли, Смоктуновский на полях страницы с текстом дополнительно расписывает реакцию, ход мыслей, который вызывает у его героя реплика собеседника.
На реплику Арины Петровны «Так оправь меня и осуди его» пометка:
«Не этим-то возьмешь, ущучишь.
Я знал, я чувствовал, что вы так и решите — знал это с самого начала».
А. П. «Пусть живет, вроде убогого на прокормлении крестьян».
Пометка: «Маменька, вы ведь сами не верите в то, что только что сейчас сказали».
Комментарий на слова, что Степану полагается из папенькиного имения: «Вот ведь закорючка».
И там же дополнительные, четко привязанные к репликам подтексты произносимых фраз: «Надо было тогда, как вы ему дом покупали, тогда обязательство с него взять». На полях: «Наивнее».
«Дом промотал и деревню промотает. К тебе тогда же и придет».
«Да ты ведь сама все это знаешь. Наконец, понял ее слабину.
Как вы сами, собственно, и все сформулировали, и знаете.
Достойный продолжатель рода головлевых — знатного, хозяйственного и рачительного рода!»
Подводя ее к решению, по сути, убийства сына: оставить его «на прокормлении» в голомевском доме:
«Ничего другого не остается.
Да и бумагу насчет наследства от него вытребовать. Пить, есть балбесу-то что-то надо. Не даст бумаги, можно и на порог ему показать — пусть ждет папенькиной смерти».
Убеждая маменьку, что и после ее смерти будет помогать брату Степану: «Да неужто вы на нас, ваших детей, не надеетесь», — многозначительное:
«А, ну, увидь меня».
То ли бесхитростное: пойми, наконец, что я весь — душа нараспашку. То ли ерническое — на-ка выкуси, попробуй, разгадай. То ли из черной бездны, a ну как поймет сейчас всю мерзость, скрытую за потоком ласковых уменьшительных словечек.
И как финал сцены:
«Пошел и на ходу молится: как, однако, трудно жить честно в этой жизни!»
Победив, он теперь успокаивает собственную совесть:
«Кто над родительским благословением надругался?
Я их мучил, но как они меня мучили и продолжают мучить».
И эти переговоры с чем-то похожим на совесть идут:
«В его ритмах замедленно и должбежно (долбежка)».
Переломным моментом была сцена у умирающего брата Павла. Иудушка, появляясь у постели больного, своими разговорами, приговорками, самим фактом своего появления сводил брата в могилу. Ритуальный семейный быт и смерть намертво сцеплялись в неразрывное единство. Иудушка впервые выступал кровопийцей в самом прямом смысле слова. Страшным пауком нависал он над кроватью, медленно высасывая силы, здоровье, саму жизнь.
Записи Смоктуновского в этой сцене похожи на стенограмму потока сознания. Всполохи мыслей, чувств, ощущений даны в неразрывном клубке. Артист забирается в глубины подсознания, кишащие редко выползающими на поверхность гадами: мания величия и комплекс неполноценности, образы и мысли, в которых не признаешься самому себе.
Иудушка появляется незваным в усадьбе больного брата, где его ненавидят и боятся, где живет выгнанная им мать, и первая пометка:
«Ощущение мною ненависти окружающих — привычное, и, следовательно, все ОК Значит, я неуязвим».
Тональность встречи и отношения к болезни брата:
«Здесь, маменька, мы не властны. Будет так — как будет».
При внутренней уверенности, что:
«Мать хочет ограбить меня».
Я — законный наследник брата, но кто знает, не успели ли они что-нибудь предпринять. И тут же рядом ехидная мыслишка, никак вслух не проговариваемая:
«Ну, что: вот вы от меня шли к нему — ну, и что?
Ну, вот, маменька, так куда вы убегали? И теперь куда вы прибежали?»
Не видят, не понимают, что значит идти против меня. Это оскорблять Господа Бога! Ибо правота моя, подтверждаемая уничижением и смертью врагов моих, — от Бога:
«Представляю Господа Бога на земле — правоту. Потому и побеждаю».
В сцене с матерью Иудушке, по мысли Смоктуновского:
«Не надо притворяться».
Он преисполнен чувства собственной значимости и правоты. Он заранее предвкушает победу. Сегодня, как и всегда, он
«Добивается своего каждый раз».
И это чувство значительности и справедливости происходящего пытается передать окружающим:
«Вот я вижу, ты переживаешь. Кто говорит, что это хорошо?
Все случилось справедливо.
Тайна Смерти.
Да, да, жуть сочувствия».
Трижды, ритуально повторенное, выписанное в столбик:
«Брат плохой.
Брат плохой.
Брат плохой».
По мысли Смоктуновского, Иудушка в этой сцене упорно пытается открыть окружающим глаза на тайный смысл происходящего: Павел был плохим братом, не любил меня, и вот теперь умирает. Умирает, потому что был плохим братом, умирает, потому что не любил меня. И как же можно это не видеть, не понимать?! Только специально раздражают меня и делают вид, что не понимают:
«Я боюсь, что меня всегда неправильно понимают (не любил меня брат).
Не любил меня (ну, если Бог может простить такое).
А ведь вы мечтали оставить меня с носом, но я — таков, единственно возможный. Таким и останусь на всю жизнь. Победа!!! А я поднимусь к тому правдолюбцу».
Короткий обмен репликами с матерью (всего-то по нескольку фраз с той и с другой стороны) становится переломом. Образ Иудушки в этой сцене выходит за пределы бытового, житейского правдоподобия, обретая иной масштаб и иной объем. Сатанинская гордость и непоколебимая уверенность в собственной непогрешимости, тупое упорство шершавого животного, та абсолютная чуждость человеческой логике, человеческому строю мыслей, которая заставляла вглядываться в этого Иудушку с мучительным сомнением: человек ли это вообще.
Он идет к умирающему брату, частично влекомый местью:
«Есть многое, многое за что мстить».
Частично, чтобы объясниться и договорить с одним из тех, главных врагов, которые для натур эгоистичных становятся более значимыми, чем любые близкие друзья:
«Да, я понимаю, что ты меня не любил, не любишь, ну, а попробуй вести себя на моем месте по-другому».
Частично из тщеславия: пусть брат сравнит, каков «я» и каков сейчас «он»:
«Ты же сам никогда ничего не мог, а теперь совсем без сил».
Но самое главное: для окончательного и бесповоротного утверждения собственной правоты. Пусть брат сам подтвердит, что прав был я, а не он, что живу правильно я, а не он:
«Последний расчет — кто прав? Ну, скажи же, наконец, — я прав, а?
Ты вот всегда утверждал, что я плохой христианин, но на проверку смотри: тот, кто первый умер, то и…
Ты — бездарь, а ведь могло бы быть совсем наоборот».
И кощунственное:
«Провидение — финал спора».
Смоктуновский записывает на полях варианты разгадок Иудушкиного поведения:
«Комплекс неполноценности в страшном тщеславии: я выше всех.
Встречает обиды — переживает их. И с позиции уже их проглотив — имеет
право быть правым».
Наконец, неожиданное:
«Крупная сволочь «Рокфеллер»».
Видимо, как «Рокфеллер» среди банкиров высится Иудушка среди «обыкновенных сволочей», сволочь особо крупная, уникальная, единственная:
«Самовозбуждающийся, наивный, добрый, совсем ничего вроде вокруг не замечающий скат».
Тут же подсказка себе — запись возможного прототипа: