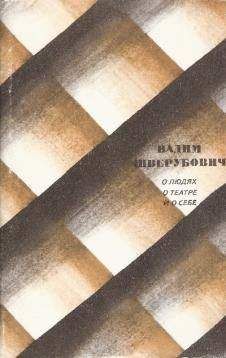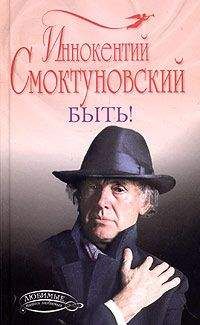Ольга Егошина - Актерские тетради Иннокентия Смоктуновского
Сосредоточенность большая.
Евреи стареют глобально.
Тонкий еврей».
Наконец, далее:
«Библейская мудрость».
Часовщик явно увиден через библейских патриархов, как представитель народа пророков, овцеводов и царей. Отсюда — свобода в старости и малопопятное: «Евреи стареют глобально».
Но разговорчивый погодинский еврей-часовщик мало похож на величавого библейского патриарха. В нем нет ни эпического покоя, ни широкого жеста, ни приподнятого тона. Кажется, и сам артист остался не удовлетворенным своими поисками ролеобразующего стержня. В пометках к Часовщику непривычно много чисто ситуационных указаний, даже отмечены те или иные жесты (чего во всех предыдущих тетрадках артист избегал). И это понятно. После того как артист чувствовал правду внутренней жизни своего героя, логика характера диктовала поведение. Если внутренняя логика и правда не были найдены, то оставалось искать правду каждого отдельного кусочка, каждой отдельной реплики.
Ход кремлевской беседы расписан Смоктуновским буквально «по косточкам». Откомментирован каждый вопрос и каждый ответ.
Вопрос Дзержинского: «Скажите, кто вас обидел?»
Пометка: «Что за человек спросил?»
Вопросы Ленина: «Трудно жить? Голод, разруха, хаос? Устали? Голодаете?» — сопровождены замечанием:
«ЕГО НЕМНОГО РАЗДРАЖАЮТ ТАКИЕ ВОПРОСЫ».
Живая реакция Ленина на его рассказ, что работал для Льва Толстого, вызвала впервые симпатию к собеседнику:
«Ему понравился В. И.».
Его поведение в Кремле рассыпалось на множество мелких движений и жестов:
«Входит — послушал: часы ходят.
Довольно часто посматривал на Дзержинского.
Ему не нравится, что перед ним заискивают.
Не понимает многого. Проникает во время как художник».
В этот раз комментарий Смоктуновского идет не как обычно «в сторону» и «поперек» текста, но впрямую за словами автора. Рассказ об уникальных вручную сделанных часах Нортона, которые он чинил месяц, и был вызван на собрание кооператива часовщиков, и получил выговор за медленные темпы, сопровожден замечанием:
«Не торопится. Работает медленно».
На известие, что ему поручают чинить кремлевские куранты, в пьесе Часовщик откликается репликой: «Кремлевские часы на Спасской башне?!» Смоктуновский расписывает этот момент подробно:
«Не восторг, но революция его как-то коснулась. Тонко. Ощущение гражданина. Любит Россию.
Вспомнил, как они звучали до революции.
Ни в коем случае не впадать в умиление, что ему поручили куранты».
— Нам нужно научить куранты играть «Интернационал». Научите?
— Попробуем заставить.
Согласие Часовщика усилено артистом и, видимо, режиссером:
«ВЫ ЖЕ ЗАСТАВИЛИ ВЕСЬ МИР ПЕТЬ — ПРОПЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ».
Любопытно, что тщательно расписывающий слова романсов Дорна, Смоктуновский слова «Интернационала» не выписывает. Может быть, и так знает наизусть. Но, вероятнее, в этой роли собственно правда самочувствия не столь необходима. И здесь важна и характерна последняя пометка. На финальных репликах Часовщик догадывается, кто был третий собеседник:
«Доиграть, что это Дзержинский».
Слова «сыграть», «доиграть», «отыграть» в актерских тетрадках больше не встречаются. Добиваясь предельной правды существования своих героев, Смоктуновский, видимо, не осмысливает свое пребывание на сцене в терминах «игры», «изображения кого-то». В этом смысле появление слова «доиграть» в роли Часовщика столь же показательно, как показательно и отсутствие местоимения «я» в отношении к образу. Во всех предыдущих ролях наступал момент, когда Смоктуновский мог сказать о своем герое «я», употребить глаголы от первого лица. В роли Часовщика такого момента не наступило.
В лежащей в архиве тетрадке с ролью 4-го члена ЦК РКП(б) в пьесе «Так победим!» Шатрова пометок нет вообще. Слова роли аккуратно переписаны Смоктуновским рядом с печатным текстом.
Иудушка Головлев
Талант есть некая плесень, которая разъедает и заставляет сомневаться, быть недовольным, хотеть еще чего-то. Тысяча вопросов Смоктуновского могли бы свести с ума, если бы у меня не было к нему встречных двух тысяч вопросов. Это соревнование создавало союзнические, даже дружеские отношения в ходе работы, потому что мы вдруг понимали, что нам есть куда тянуться.
Лев Додин
Олег Ефремов пригласил Льва Додина на постановку одного из самых тяжелых и мрачных российских писателей. Во МХАТе и идею инсценировки романа Щедрина (тоже Немирович-Данченко нашелся!), и самого пришельца встретили настороженно и иронически («какой-то Додин прибыл, ну-ну, посмотрим, что за птица»). Между тем многофигурный, громадный спектакль требовал объединения в работе десятков людей. «В щедринской работе «новая» и «старая» труппа МХАТ оказались поставленными лицом к лицу», — напишет позднее мхатовский историк, и далее: «Сотворчество разных поколений оказалось радостно-мучительным». В процессе постепенного признания режиссера труппой Смоктуновский сыграл важную роль. Раз поверив в Додина, отношения не изменил в течение жизни. При всей своей нутряной нелюбви к режиссерам как к классу, работу Додина оценил высоко, а Иудушку — тяжко давшуюся роль — относил к любимейшим. Так же как сразу принял и оценил сценографический замысел Эдуарда Кочергина. Последний запомнил, как, попав в больницу с инфарктом, получил от незнакомого артиста теплое письмо со словами поддержки и привета…
Первая запись в актерской тетрадке — автограф Додана — передает вибрирующий настрой режиссера перед началом репетиций.
На обложке:
«Смоктуновскому И. М.
с надеждами безграничными,
с волнением несказанным,
Дай нам Бог мужества!
Ни ПУХА.
Л. Додин 8/1 — 83 г.»
Напутствует как на битву, где надеяться можно только на Бога и собственное мужество.
Ниже под словами Додина взятые в рамки несколько фраз:
«Январь Что-[то] пасмурно, но вдруг проглянуло солнце в окно, как привет
и напутствие.
Благодарю».
Это настрой артиста.
Актерская тетрадка роли Иудушки Головлева даже среди исписанных тетрадей Иванова и царя Федора кажется монстром. Три тысячи вопросов актера к режиссеру и обратно, о которых вспоминает Додин, явно не относятся к фигурам речи и не являются преувеличением. По мере чтения этих исписанных на обороте и полях страниц в какой-то момент возникает странное ощущение, что слабый, мерцающий, едва намеченный контур образа постепенно наливается кровью живых подробностей, наблюдений, ассоциаций, деталей, догадок, — на глазах наливается силой и жизненным румянцем, Иудушка на страницах постепенно обретает сверхъестественную пугающую живость.
Начинается, как обычно, первыми «пристрелками» к характеру, первыми объясняющими догадками, первыми манками. Неожиданную тональность предлагает артист истории последнего представителя выморочного рода, уморившего братьев, детей, мать, племянниц, истории Иудушки-кровопийцы:
«История борьбы, бойца, завоевания».
Потом на протяжении сотен страниц не раз будет варьировать эту сверхзадачу. Как и в остальных тетрадках, Иннокентий Смоктуновский в тетрадке роли Иудушки Головлева меньше всего заботится о «литературных» достоинствах собственного текста. Десятки раз напоминает себе сквозное действие роли. Одну и ту же задачу, мысль «проводит» через многочисленные сцены и повороты сюжета. Сама плотность его записей в «головлевской тетрадке» превращает чтение его пометок в своего рода прогулку через колючий кустарник: то и дело «цепляют» неудачные синтаксические обороты, настойчивые повторы. И снова и снова надо напоминать себе, что тетрадь не предназначалась для посторонних глаз. И все пометки имели значение сугубо прагматическое, помогая артисту в работе над образом.
Додин ставил спектакль о распаде дома, о вырождении семьи, о смерти рода. В мистической полутьме сверкали огоньки. Усиленное динамиками биение человеческого сердца рифмовалось с ритмом литургической церковной службы. Огромное бесформенное покрывало, напоминающее великанскую шубу, огораживало Головлево. Страшное черное пространство вплотную подступало к покоям головлевского дома. Додин и мхатовские актеры искали равновесие между концептуальным пространством и почти натуралистической физиологической точностью авторского письма. Умертвия свободно разгуливали по головлевским комнатам, подходили к кровати, где кряхтел, отфыркивался, постанывал Иудушка, к чайному столу с обязательным самоваром, с засаленными картами.
Историю распада личности, постепенного схождения в безумие, историю постепенного «выдавливания» из Головлева и из жизни всех родных и близких, Смоктуновский описывал для себя в терминах боя, сражения: