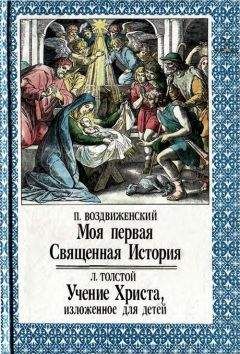Сергей Аверинцев - Статьи не вошедщии в собрание сочинений вып 1 (А-О)
Черта эпохи - связь между идеями свободы и странствия, вообще динамики в пространстве (а значит, и подвижности позиции индивида между цивилизациями!); приходится вспомнить ставшие мифом эпохи путешествия Байрона. У Гёте в "Западно-восточном диване" мы читаем:
Lasst mich nur auf meinem Sattel gelten!
Bleibt in euren Hutten, euren Zelten!
Und ich reite froh in alle Ferne,
Uber meiner Mutze nur die Sterne.
(Только дайте мне красоваться в моем седле! Оставайтесь в ваших хижинах, в ваших шатрах! И я весело мчусь во все дали, над моей феской - только звезды.)
Как не вспомнить из Пушкина что-нибудь вроде:
Отступник света, друг природы,
Покинул он родной предел
И в край далекий полетел
С веселым призраком свободы.
Свобода! Он одной тебя
Еще искал в пустынном мире...
Но важна, конечно, не столько лежащая на поверхности тема пространственной подвижности, сколько все то, что Достоевский назвал всечеловечеством Пушкина и что столь очевидным образом ощутимо и в Гёте. Всечеловечество невозможно без интереса к "местному колориту", но и несводимо к нему, более того, в определенной мере противоположно всему, что есть только гурманство по части экзотики. Как мы определим существо классического всечеловечества? По-видимому, и здесь суть в остром напряжении между традиционной культурной исключительностью и грядущим плюрализмом культур. Позиция Гёте и Пушкина состоит в том, что они, воспринимая на высшем возможном для их эпохи уровне чуткость к разнообразию цивилизаций, ощутимому чувственно - на глаз, на вкус, на запах, - одновременно удерживают столь же непосредственное ощущение нерелятивизируемого единства человечества, продолжают верить в вертикаль ценностной шкалы, в онтологический статус человеческих "универсалий". Пройдет миг на часах истории - переход от эпохи Гёте к эпохе Гейне, от пушкинской эпохи к некрасовской, - и переживать это с такой цельностью перестанет быть возможно: навсегда.
Каждый классик после своей канонизации вызывал острые споры вокруг конвенционального и антиконвенционального образа своей классичности. И Гёте, и Пушкин в преизбытке навлекли на себя именно такую посмертную судьбу. Каждому известны интонации, в которых заявляли о себе на протяжении последних двух веков и культ Гёте, и спровоцированное этим культом иконоборчество. В применении к Пушкину один тип дискурса представлен, скажем, знаменитой Пушкинской речью Достоевского, чтобы не упоминать цветов советского юбилейного красноречия; другой - книгой А. Д. Синявского. Нас не интересуют здесь эмоциональные моменты и психологические подоплеки той и другой позиции, а потому поспешим перейти к моментам содержательным.
Конвенциональный образ строится вокруг понятия гармонии: гармонии художественной, истолкованной как непротиворечивое соответствие между "формой" и "содержанием"; гармонии мировоззренческой, истолкованной как установка на "позитивное мышление"; гармонии нравственной, понятой как способность к вынесению более или менее однозначных приговоров о "положительных" и "отрицательных" характеристиках персонажей.
Как выглядит дело в реальности? Да, творчество Пушкина, как и творчество Гёте, дает читателю удивленное переживание некоторой особой гармонии между так называемой формой и так называемым содержанием - между движением стиха, фонетической "оркестровкой" и проч., с одной стороны, и предметом изображения, с другой стороны. Но еще Гераклит замечает в одном из своих фрагментов, что скрытая гармония лучше явной. Гармония между надрывом Вертера, доводившим впечатлительных читателей до самоубийства, и течением золотой гётевской прозы есть гармония парадоксальная, гармония контрапункта и контраста, а не беспроблемного соответствия. Равным образом в "Евгении Онегине" всячески тематизируется настроение, достаточно близкое к отчаянию; и притом роман - тут исключительно к месту вспомнить все рассуждения Бахтина о романе как противоположности эпосу! - развертывается как причудливо-непринужденная causerie автора с читателем, принципиально ни с чего начинающаяся и ничем заканчивающаяся; но онегинская строфа далеко не случайно принадлежит к числу самых строгих, самых сложных и музыкально упорядоченных строфических форм в русской и европейской поэзии. Из этого же, кстати, очевидно, насколько сложен в случае Гёте и Пушкина вопрос о гармонии мировоззренческой, о наличии или отсутствии "жизнерадостности", "приятия мира" и т. п. Как распределяет себя мировоззрение Пушкина между тематикой "Евгения Онегина" и его строфикой, противостоящей изображенному душевному хаосу примерно так, как небо над Аустерлицем, которое видит князь Андрей у Льва Толстого, противостоит кровавой бессмыслице битвы? В чем именно его искать? Строй формы "ставит на место" героя и самый авторский голос, как это было бы немыслимо у Гейне или тем более, скажем, у экспрессионистов. Но форма - это форма, а не тезис, даваемый ею катарсис ничего не "объясняет" и никого не "утешает" в тривиальном смысле этих глаголов.
Что касается способности к более или менее однозначным вердиктам, то с этим дело обстоит особенно сложно. Фауст, употребляя самое мягкое выражение из словаря самого Гёте, - личность "проблематическая" (problematische Persцnlichkeit). Честное слово, можно понять К.-С. Льюиса, который находил дьявольское начало никак не в Мефистофеле, сохранившем хоть способность к юмору, а в серьезничающем, торжественном фаустовском себялюбии. (Тем лучше Фауст подходит к своей функции безличного зеркала авторской личности.) Что до Пушкина - кто поверит, кто способен поверить, будто Самозванец - персонаж "негативный"? Но уж совсем необычный казус - разделение в "Капитанской дочке" одного и того же исторического прототипа (Шванвича - дворянина, перешедшего к Пугачеву) на всецело светлого Гринева и всецело инфернального, однако, несмотря на свою порочащую фамилию и злые дела, вызывающего в читателе участие Швабрина. Впрочем, и Гринев, и Швабрин - персонажи почти сказочные. Но в случае характеристики персонажей более "взрослых" Пушкин дает не столько тезисы, сколько вопросы, демонстративно тематизируя открытость образа. С другой стороны, это еще не та открытость образа, которая станет возможной при более решительном отходе от традиции - скажем, после Достоевского. У Пушкина открытость образа показывается через каталог альтернатив, каждая из которых формулируется в манере, достаточно близкой к риторической конвенции, - но так, что все они в совокупности взаимно оспаривают друг друга. Иногда это мотивируется сюжетом: так, ранняя смерть Ленского позволяет гадать о неосуществленных возможностях.
XXXVII
Быть может, он для блага мира,
Иль хоть для славы был рожден;
Его умолкнувшая лира
Гремучий, непрерывный звон
В веках поднять могла. Поэта,
Быть может, на ступенях света
Ждала высокая ступень.
Его страдальческая тень,
Быть может, унесла с собою
Святую тайну, и для нас
Погиб животворящий глас,
И за могильною чертою
К ней не домчится гимн времен,
Благословение племен.
XXXVIII
А может быть и то: поэта
Обыкновенный ждал удел.
Прошли бы юношества лета:
В нем пыл души бы охладел.
Во многом он бы изменился,
Расстался б с музами, женился,
В деревне счастлив и рогат
Носил бы стеганый халат;
Узнал бы жизнь на самом деле,
Подагру б в сорок лет имел,
Пил, ел, скучал, толстел, хирел,
И наконец в своей постеле
Скончался б посреди детей,
Плаксивых баб и лекарей.
Но в случае самого Онегина такие мотивировки как будто отсутствуют; тем не менее прием тот же - преодоление клише осуществляется за счет манипуляции ими всеми.
Чудак печальный и опасный,
Созданье ада иль небес,
Сей ангел, сей надменный бес,
Что ж он? Ужели подражанье,
Ничтожный призрак, иль еще
Москвич в Гарольдовом плаще,
Чужих причуд истолкованье,
Слов модных полный лексикон?...
Уж не пародия ли он?
Все тот же ль он иль усмирился?
Иль корчит так же чудака?
Скажите, чем он возвратился?
Что нам представит он пока?
Чем ныне явится? Мельмотом,
Космополитом, патриотом,
Гарольдом, квакером, ханжой,
Иль маской щегольнет иной?...
Бахтин дал статус термина словосочетанию "готовое слово"; безвременно скончавшийся теоретик литературы моего поколения А. В. Михайлов плодотворно разрабатывал этот концепт далее. Для классиков, как Гёте и Пушкин, готовое слово, т. е. риторическая формула, не становясь предметом систематической агрессии, как у Гейне и русских шестидесятников, остается законным инструментом творчества, но смена этих инструментов небывало свободна. Готовое слово у них обоих - объект игровой манипуляции, свободной, однако достаточно серьезной; и серьезность, и игра в некотором смысле невинны. Готовое слово берется в руки, но, так сказать, к рукам не прилипает. Авторское отношение к нему конструктивно, однако дистанцированно, всегда остается право стремительно отходить от одного регистра к другому. Примеров можно найти сколь угодно много - у обоих поэтов.