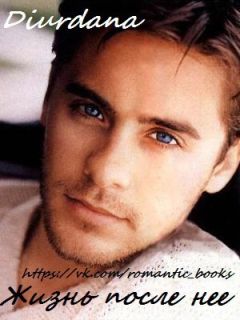Антон Нестеров - Колесо Фортуны. Репрезентация человека и мира в английской культуре начала Нового века
В «Медитации V» мы встречаемся со следующим рассуждением:
«Пусть болезнь – сама величайшее из несчастий, но величайшее несчастье, выпадающее нам в болезни, – одиночество; – ибо те, кто мог бы нас поддержать, нас избегают, опасаясь заразы: даже врач, и тот идет к больному с трепетом, перемогая себя. Одиночество – мука, которой не грозят нам и глубины Преисподней. <…> что ближе к пребыванию в абсолютной пустоте, чем одиночество, когда ты – один, совершенно один; разве любезно это Природе или Господу? <…> я болен, и при том заразен: единственное избавление для окружающих – удалиться и оставить меня в одиночестве. Великие мира сего – у них есть оправдание: они притворствуют, что милосердны, – но сама мысль о посещении больного им отвратительна; есть оправдание и для тех, кто в чистоте сердца хотел бы придти, но их сдерживает запрет: ведь придя, они могут стать переносчиками заразы, превратиться в орудия болезни. Так больного объявляют вне закона, он отлучен, изгнан; он не только оказывается вне общества с его законами вежества – даже права деятельного милосердия не распространяются на него. <…> Помыслите только – сам Господь есть прообраз Общества: Он един, но в Нем – три Лика; разве все проявления Его не свидетельствуют о любви к Обществу и общине? В Небесах есть Ангельские Легионы и Сонмы мучеников – в Доме Том много обителей[225]; на земле же – семьи и города, церкви и коллегии: все они существуют как множества <…>. Ангелы же, которые сотворены так, что не умножают и не преумножают род свой, изначально были созданы изобильны числом; то же верно и в отношении звезд; однако все создания, принадлежащие миру дольнему, получили в благословение слова: плодитесь и размножайтесь;[226] ибо, полагаю, нет нужды говорить, что птицы Феникс не существует в мире сем: нет ничего, что существовало бы само по себе, только в своей единичности. Человек, верный Природе, далек от того, чтобы думать, будто есть в мире что-то, существующее как единичное<…>, ибо и Бог, и Природа, и Разум сообща восстают против этого».[227]
Внимательный читатель этого пассажа не может не почувствовать, что в какой-то момент здесь происходит своего рода сбой, «разрыв непрерывности». Казалось бы, логика, согласно которой образы этой медитации выстраиваются один за другим, достаточно ясна: начиная с одиночества, на которое обрекает болезнь (в подтексте здесь отсылка к ветхозаветным законам об изгнании прокаженных из стана – см. Левит, гл. 13 и 14), Донн переходит к ритуалу посещения страждущих королем, в основе которого – вера в исцеляющую силу королевского прикосновения, но вновь возвращается к тому, что одиночество противоестественно для человека, и само мироздание сотворено так, чтобы человеку был помощник. И после этого рассуждения почему-то упоминается птица Феникс…
Сама лапидарность этого упоминания свидетельствует: Донн касается здесь чего-то очевидного, не нуждающегося в детализации, и на первый взгляд, вводная формула «нет нужды говорить, что…», подтверждает это. Но иногда такого рода «скачок» через «ступеньку доказательства» указывает: автор не очень-то в этой ступеньке уверен и подозревает, что, наступи он на нее всей тяжестью, она рухнет, а вместе с ней рухнет в пропасть и повествователь. И лапидарность такого аргумента – своего рода кивок sapienti sat.
Возникает вопрос: краткость донновского упоминания продиктована очевидностью аргумента, или же автор из осторожности избегает того, чтобы его развивать?
Двадцать с лишним лет спустя после появления «Обращений к Господу» младший современник Донна, умница, эрудит, энциклопедист сэр Томас Браун в своем трактате «заблуждения заразные» («Pseudodoxia Epidemica», 1646) посвятит «очевидной» проблеме Феникса целую главу:
«Представление о том, что в мире существует лишь один единственный Феникс, который, прожив несколько веков, сжигает сам себя, из пепла же восстает новый Феникс, – не оригинально, но при том весьма популярно, и восходит к великой древности; оно дошло до нас не только через авторов той эпохи, но часто встречается и у тех, кто толковал священное писание: у Кирилла, Епифания и других, у Амвросия в его «Гексамероне», у Тертуллиана в стихотворном «De Judicio Domini»;[228] однако еще важнее в этом отношении его замечательный трактат «De Resurrectione carnis»[229]. «Illum dico alitem orientis peculiarem, de singularitate famosum, de posteritate monstrosum; qui semetipsum libenter funerans renovat, natali fine decedens, atque succedens iterum Phoenix. Ubi jam nemo, iterum ipse; quia поп jam, alius idem».[230] Упоминается о Фениксе и в Писании, особенно в 29 главе «Книги Иова». Так, в переложении Беды говорится: «Dicebam in nidulo тео moriar, & sicut Phoenix multiplicabo dies»;[231] а в 92 Псалме сказано: «δικαιος ωσπερ φοινιξ αωθησε», что Тертуллиан в вышеупомянутом сочинении передает как «vir Justus ut Phoenix florebit»[232]<…> И однако древние авторы, от которых исходит этот рассказ, выражаются весьма и весьма двусмысленно. Так, Геродот в «эвтерпе», сообщая историю о Фениксе, при том замечает: «εμοι μεν ου λεγοωτες», – «рассказ этот не кажется достоверным». <…> Рассказ Плиния еще баснословней: будто Феникс прилетел в Египет во времена консульства Квинта Плавтия, а когда цензором был Клавдий, птицу привезли в Рим, случилось же это в 800-й год от основания города, и тому есть письменные подтверждения, – но и Плиний оканчивает свое повествование словами: «Sed quæ falsa пето dubitabit»[233]…».[234]
Томас Браун рассматривает свидетельства Овидия, Вергилия, лактанция, Клавдиана, сравнивает, по септуагинте и Вульгате, переводы тех мест Писания, где говорится о Фениксе, касается упоминаний о Фениксе у Парацельса и других алхимиков, – чтобы прийти к заключению:
«Что до уникальности Феникса и представления о том, будто в природе существует в единственном числе, то это несовместно не только с Философией, но и со Священным Писанием, где ясно сказано, что в Ноев Ковчег входило по паре каждой твари: "Введи также в ковчег из всех животных, и от всякой плоти по паре, чтобы они остались тобою в живых; мужеского пола и женского пусть они будут" (Быт. 6, 19). Это представление посягает на благословение Бога, данное Его твари: "И благословил их Бог говоря: плодитесь, и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле" (Быт. 1, 22) И еще: "Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею" (Быт. 1, 28); все это неприменимо к Фениксу, о котором полагают, будто он существует в мире в единственном числе, – но ныне существует он не более, чем при произнесении первого благословения Господня, ибо порождение одного Феникса есть уничтожение другого, – пусть даже Феникс порождает Феникса, это не значит «плодиться", а о том, кто существует лишь в единственном числе, нельзя сказать, что он "размножается"».[235]
Вот он, аргумент Донна, но – в развернутом виде. Чтобы его привести, Томасу Брауну не жалко нескольких страниц текста – то есть, по его мнению, эти наблюдения стоят того, чтобы ими поделиться, – сказанное не является общим местом, известным всем и каждому.
Тем самым мы вправе предположить: причина лапидарности Донна вовсе не в том, что его аргумент так уж самоочевиден. Скорее, Донн едва касается некой интеллектуальной проблемы потому, что под ней сокрыта иная проблема, которую лучше лишь наметить… и промолчать. Собеседник и так поймет, о чем речь.
К моменту восшествия Иакова на английский престол Донн был серьезнейшим образом скомпрометирован состоявшимся незадолго до того, в начале 1602 г., судебным процессом из-за своего тайного венчания с Анной Мор. Формально такого рода судебные разбирательства затевались во имя охраны нравственности подданных английской короны, но на самом деле были тесно связаны с политикой: в силу того, что браки могли служить созданию и укреплению нежелательных политических альянсов, дворянам и придворным запрещалось вступать в брак без разрешения королевы. И хотя по делу Донна суд вынес оправдательный вердикт, поэт лишился места секретаря у лорда Хранителя Печати Томаса Эджертона (по сути – министра иностранных дел) и фактически был вышвырнут на обочину социальной жизни. Общество подозревало в нем человека политически неблагонадежного – и уж, конечно, несдержанного. Эта репутация закрепилась за поэтом столь надолго, что когда в 1608 г. через одного из фаворитов короля Иакова, лорда Хэя, он просил о месте секретаря при дворе, «Его Величество, – по словам самого Донна, – вспомнил меня, но воспоминание это было связано с самой худшей частью моей истории, – опрометчивым проступком, совершенным тому семь лет назад, по юношескому незнанию».[236]