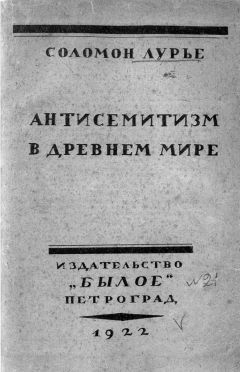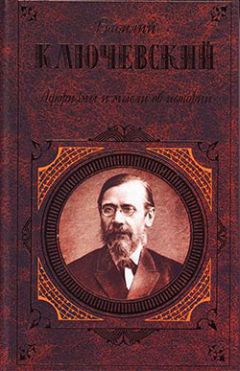Евгений Добренко - Политэкономия соцреализма
Наиболее зримые результаты введения нового теоретического дискурса видны в текущей критике. Примененная к актуальному литературному и художественному процессу новая теория позволила по–новому взглянуть на проблемы жанра, стиля, конфликта, героя. Поскольку «деятельность рабочего класса героична, ей может соответствовать только героический характер стиля социалистического реализма»[193]. Чем плох прежний романтизм? Тем, что «романтическая литература разных направлений и школ была обильна героями – эффектными, благородными, храбрыми, исполненными небывалых доблестей и добродетелей. Они обладали всеми достоинствами, кроме одного – они не были реальными, не были правдивым воплощением буржуазной действительности»[194]. Иное дело соцреалистический автор – он «не нуждается в выдуманных, фальшивых, ходульных героях, он отворачивается от них подобно реалистам прошлого. Но не для того, чтобы отказаться от героев, а для того, чтобы изображать реальных действительных героев. Стиль социалистического реализма – это стиль героики масс». Удел буржуазных художников – «реальность без героизма или героизм, лишенный реальности»[195].
Границы между «реальностью» и «идеалом» смываются окончательно: «В прошлом человечество не имело никакого представления о героизме будничной работы. […] Героизм и будни – это были в прошлом абсолютно исключающие друг друга понятия. Погрузиться в будни – значило позабыть о героизме […] видеть в будничном героическое – это возможно только для художника рабочего класса»[196]. «Героика» становится «повседневной», «повседневность» – «поэтической», «герой» и «масса» также перестают противостоять друг другу: «Художник рабочего класса не должен отказываться от героев в пользу масс. Наоборот, изображая массу, он изображает героев. […] Именно овладение показом героизма массовой и будничной работы будет мерой роста, мерой успеха, мерой побед стиля социалистического реализма»[197].
Нетрудно догадаться, какая судьба в этом мире гармонии уготована конфликту. Теоретически обосновывая соцреалистическую революцию в драматургии, ведущий театральный критик 30–х годов Ю. Юзовский задавался вопросом: «Гегель учил, что существенным пунктом драмы является противоположность и враждебность сталкивающихся друг с другом интересов. Оказывается, что эти интересы общие. Что же делать?» И отвечал: «Если мы уничтожим жестокие антагонистические противоречия собственников, то наступят замечательные противоречия, не конкуренция собственников, а, например, социалистическое соревнование. […] Тут, так сказать, выигрывают оба, хотя будет страдать один из них, но это не есть страдание от вражды другого, а я бы сказал, от дружбы»[198]. Все это спустя годы будет названо «теорией бесконфликтности». Но это было только ее началом, что видно в неуклюжести формулировок типа «замечательные противоречия» и «страдание от дружбы».
К концу 1934 года дискуссия о соцреализме достигает своего пика. Как можно видеть, сводилась она в основном к коллизии реальность/идеал. Именно из нее начала вырастать прометеистская эстетика, в основе которой лежало, пользуясь названием статьи известного критика тех лет Вениамина Гоффеншефера, «соревнование с действительностью». «История искусства, – писал Гоффеншефер, – не знает постоянства в соотношении искусства и действительности. Бывают эпохи, когда грань между искусством и жизнью стирается. Бывают эпохи, когда действительность вступает в соревнование с искусством, противопоставляя себя последнему как эстетическое явление. Это может произойти вследствие слабости искусства, это может произойти вследствие силы действительности»[199]. В советской стране «и самый факт и восприятие его приобретают характер необычайной глубины и красоты, в подлинном смысле этого слова… Читая краткие телеграммы о спасении челюскинцев, люди восхищались и украдкой вытирали слезы, так, как будто они читали толстый волнующий роман… Применяя к действительности литературные определения, можно сказать, что мы встречаем здесь острую и интересную сюжетную ситуацию, имеющую глубокую и общественно значимую мотивировку. И все это, поднимая наши мысли и эмоции до высоты искусства, превращает саму жизнь в художественное произведение.
Элементы этого грандиозного художественного произведения слагаются из отдельных произведений: из новостроек, колхозов, научных лабораторий, стратостатов, новых людей и новых чувств» (С. 13).
И вот оказывается, что советский художник стоит «перед великим художественным произведением, называемым советской действительностью. Он пытается отобразить этот мир в своих книгах. Но сам материал настолько «эстетичен», что художник рискует пойти по линии наименьшего сопротивления. Стоит ему взять любой факт, немножко «приврать», и… – факт превратится в новеллу… Сколько писателей и сколько произведений держатся целиком на готовых ситуациях и фактах, взятых в готовом «эстетизированном» виде из самой действительности!
У нас много говорят об отставании литературы от жизни. […] Соотносительно к нашей действительности литература играет роль человека, опаздывающего на каждой станции на поезд и впопыхах вскакивающего в последний вагон. В этом и вина литературы, и великая «вина» нашей действительности. […] Литература не успевает отражать ее поступательное движение. Там же, где художник успевает более или менее своевременно отразить тот или иной процесс, мы в большинстве случаев получаем слабое, эфемерное произведение, далеко не адекватное действительности […] любой художник, талантливо запечатлевший то, что есть в нашей действительности в завершенном виде, может рассчитывать на бессмертие. […] Но в успехе его произведения равными соучастниками окажутся и талантливость художника и «талантливость» фактов нашей действительности… Наши мечтания и наша романтика органически вытекают из реалистического вскрытия явлений нашей действительности» (С. 14–15).
В конце концов, жизнь оказывается производным искусства: «Когда художественные произведения, созданные нашими писателями, будут не только отражать, но и открывать действительность, тогда они не только не будут отставать от жизни, но будут учить, как надо жить, показывать, какой должна быть жизнь. Если бы наши художники писали таким образом, то, открыв, например, «колхозный» роман, изданный три года назад, мы нашли бы в нем не только зародыши общей ведущей тенденции, но и конкретные воплощения тех мечтаний, которые сегодня зафиксированы в газете, как рядовой факт нового быта, нового облика человека.
Что же, скажут мне, вы предлагаете художникам заниматься прожектерством и домыслами? Если хотите, да» (С. 21).
Гоффеншефер предлагает утвердить новый подход к идеалу: «Эстетическая насыщенность нашей действительности, «избаловавшая» наших художников… приводит к тому, что «идеальные» явления имеются в действительности, а в литературе почти отсутствуют» (С. 22).
Так, не искусство, но сама «жизнь» оказывается «в обозе» искусства. Она отстает от искусства, а поскольку искусство и жизнь теперь одно, то и… от самой себя: «Наша литература не может и не должна влачиться на буксире у действительности. […] Если «инженеры душ» не хотят рисковать превратиться в простых калькистов, они должны вступить в соревнование с действительностью, они должны угадывать в ней то, чего в ней еще нет, но что будет, и тем самым стать с нею вровень. […] Что может быть возвышеннее для писателя советской страны, чем творчество, в живых образах подсказывающее социалистической действительности ее идеальные формы, что может быть возвышеннее роли разведчика и учителя в нашу великую эпоху!» (С. 40).
Вступив в «соревнование с действительностью», искусство «отменило» действительность. Из‑под белил «эстетических дискуссий» начала проступать внутренняя архитектоника сталинизма, сам его стиль «воплощенной мечты», окаменевшей утопии – беспробудный сон Веры Павловны. Путь к небывалому производству новой реальности был открыт.
«Прекрасное это наша жизнь», или Абсолютный Ермилов
Выступая перед художниками, «советский президент» Михаил Калинин учил их, как надо любить родину. Он говорил, что любить можно только конкретно. «Родина», «социализм», «советская власть» – это не абстракции. Эти понятия складываются из реалий советской жизни, которые советский художник должен воспроизвести в «красивом» и «нарядном виде»: «Если хотите рисовать социализм, то не насилуйте свое воображение: у вас под руками великое множество благодарного материала, накопленного за двадцать лет. Социализм у нас – не мечта, а подлинная реальность. Этот реальный, а не фантастический реализм требует мощной кисти художника. […] Пора, наконец, понять, что социалистическое государство надо любить не только умозрительно, а конкретно, т. е. с его природой, полями, лесами, фабриками, заводами, колхозами, совхозами и т. д., с его стахановцами и стахановками, с комсомолками и комсомольцами. Надо любить нашу родину со всем тем новым, что существует в Советском Союзе, и показать ее, родину, в красивом виде […] действительно в ярком, художественно–нарядном виде»[200].