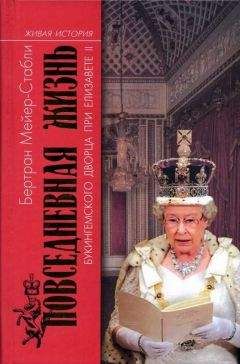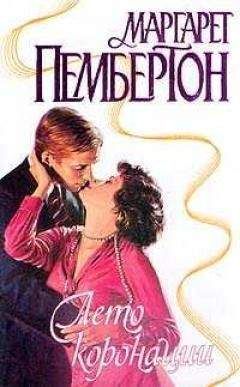И. Бражников - Русская литература XIX–XX веков: историософский текст
Выше мы рассматривали различные примеры словоупотребления глагола «скитаться», приведенные в словаре Д. Н. Ушакова. Последний из рассматриваемых примеров, как мы помним, принадлежал Герцену. Особенно остро как «скитальческое», так и «скифское» у Герцена раскрывается в «Былом и думах». Приведем полностью цитату из первой части, попавшую в словарь в качестве иллюстрации: «При всем этом можно себе представить, как томно и однообразно шло для меня время в странном аббатстве родительского дома… товарищей не было, учители приходили и уходили, и я украдкой убегал, провожая их, на двор поиграть с дворовыми мальчиками, что было строго запрещено. Остальное время я скитался по большим почернелым комнатам с закрытыми окнами днем, едва освещенными вечером, ничего не делая или читая всякую всячину» [I, с. 50]. Чуть ранее Герцен употребляет глагол «скитаться» по отношению к отцу, который около десяти лет провел заграницей [I, с. 46]. Скитальчество таким образом четко маркируется Герценом 1) по отношению к романтизированному детству и 2) по отношению к пребыванию русского заграницей.
Герцен особенно интересен нам в данном контексте как один из творцов скифского мифа и непосредственный живой участник скифского сюжета, воплотившегося в его личной судьбе. В. А. Туниманов писал в этой связи: «Свое положение в Европе Герцен много раз определял как позицию чужого, постороннего, скитальца, скифа, варвара, туранца. Он настойчиво и часто зло, полемично писал об угасании западной цивилизации, спасаясь верой в «русский социализм»172. Исследователь ставит скиталец и скиф рядом как синонимы – первые три определения (чужой, посторонний, скиталец) дают явственно западноевропейский экзистенциально-романтический контекст от Мэтьюрина и Байрона до Камю и Хандке, вторая «тройка» (скиф, варвар, туранец) прочитываются уже в специфически-русском скифско-евразийском, «почвенническом» контексте.
В «Былом и думах» Герцен несколько раз касается и собственно «скифской» темы. Вот один из этих случаев: «Меня особенно сердили тогда две меры, – вспоминает он, – которые прилагали не только Сазонов, но и вообще русские к оценке людей, строгость, обращенная на своих, превращалась в культ и поклонение перед французскими знаменитостями. Досадно было видеть, как наши пасовали перед этими матадорами краснобайства, забрасывавшими их словами, фразами и общими местами, сказанными с vitesse acceleree. И чем смиреннее держали себя русские, чем больше они краснели и старались скрывать их невежество (как делают нежные родители и самолюбивые мужья), тем больше те ломались и важничали перед гиперборейскими Анахарсисами» [V, с. 547], – пишет Герцен, и это у него еще одно косвенное сопоставление русских со скифами, поскольку Анахарсис – легендарный скифский царь, упоминаемый у Геродота. Русские здесь у Герцена (разумеется, иронически) – «гиперборейские цари». Контекст ясен: русские ведут себя перед французами так же, как скифы при дворе императора – заискивающе и стеснительно, притом, что являются умнее, скромнее и вообще лучше их. Для французов же эта скромность и смиренность – признак варварства, скифства.
Тем самым в жизни и творчестве Герцена скифский сюжет вновь заостряет антитезу Россия – Европа. Действительно: «Русские скитальцы в столкновении с западным миром – одна из самых трагических сквозных тем в «Былом и думах», тесно связанная с антитезой «Восток – Запад» во всем его творчестве. <…> русский скиталец, заблудившийся в чужих краях со своей русской тоской и неутоленной жаждой гармонии. Герцен необыкновенно остро ощущал сродство с русскими бегунами и скитальцами; их беды и тоска были очень внятны лично ему, часто чувствовавшему бесприютность и одиночество в благоустроенной и деловой Европе»173.
Итак, с одной стороны, «обидное» для национального самолюбия положение русских заграницей, а с другой – упомянутое романтическое чувство одиночества, странничества, скитальчества в мещанской Европе позволяет Герцену «развернуть» скифскую метафору и обратить ее против буржуазного мира, и тогда оказывается, что скифы – это те самые варвары, которые разрушат западную систему ценностей: «Я, как настоящий скиф, с радостью вижу, как разваливается старый мир, и думаю, что наше призвание – возвещать ему его близкую кончину» [V, с. 420], – цитирует Герцен в «Былом и думах» строки из своего письма к одному из лидеров французского социалистического движения – Ж. Прудону. Прежде всего, герценовский скиф здесь – метафора социалиста, революционера и синоним варвара, наблюдающего со стороны, как европейская цивилизация разрушается изнутри, чтобы в нужный момент «добить» ее и на руинах основать новый мир. Именно таким изобразил Скифа художник К. С. Петров-Водкин на иллюстрациях к двум выпускам альманаха «Скифы», которые выйдут уже в революционном году.
Но, кроме того, в обоих случаях ироничные скифские метафоры Герцена обозначают типическую ситуацию пребывания русских за границей. В обоих случаях присутствует обозначение русских как варваров, как иных по отношению к европейской цивилизации, тем самым Герцен в этих высказываниях занимает «почвенную» позицию. Ведь он именует себя «скифом», обращаясь к французскому социальному мыслителю Прудону и тем самым, по-видимому, апеллирует к ясному для француза контексту, в котором «скиф» – возможное обозначение русских. Утверждая, что «нет народа, который глубже и полнее усвоивал бы себе мысль других народов, оставаясь самим собою» [IV, с. 37], поздний Герцен фактически солидаризируется с основной идеей почвенников, высказанной впервые Ап. Григорьевым.
В почвенничестве славянофильство могло примириться с леворадикальным, революционным западничеством. Герцен, убедившись во время революции 1848 г. в невозможности победы социализма в Европе, по-новому открывал «мессианскую» идею; он считал, что принести социализм (и с ним «спасение») всему миру может как раз не знавшая капитализма Россия: «разумное и свободное развитие русского народного быта совпадает с стремлениями западного социализма» [IV, с. 138]. Социализм, по мысли Герцена, явится оплодотворяющей западной идеей, без которого «женственное славянское начало» не способно ни к какому движению.
Таким образом, точная вербализация метафоры «скиф» у Герцена дала бы «русский социалист» или «русский революционер». Характерно, что К. Маркс, критикуя «русский социализм» Герцена в первом издании «Капитала», иронически описывает его как «скифство» или даже «евразийство», считая его верой «в обновление Европы посредством кнута и насильственного смешения европейской и калмыцкой крови»174. Нельзя не признать в этой иронической, но очень точной реплике Маркса идею будущих «Скифов» Блока. Ведь именно такой контекст «скифства» и будет столь дорог впоследствии и Иванову-Разумнику, и Блоку. Маркс словно предугадывает известные строки:
…Не сдвинемся, когда свирепый гунн
В карманах трупов будет шарить,
Жечь города, и в церковь гнать табун,
И мясо белых братьев жарить!.. (80)
Метафора «скифа», таким образом, уже у Герцена приобретает обертона «угрозы с Востока», а в развитии у Вл. Соловьева получит то пугающее, то «ласкающее слух» имя «панмонголизм»; у Блока же окончательно «расплавится» в мифе: его скифы – с монгольскими «раскосыми и жадными очами» (77).
2.11. Русские скифы А. Блока
Стихотворение «Скифы», входящее в школьную программу, не раз привлекало внимание исследователей, в том числе и с историософской точки зрения. В этом контексте достаточно говорилось и о проблеме Восток – Запад, и о «соловьевском наследии» у Блока. Сравнительно немного сказано о развитии скифской темы в предшествующих блоковскому символистских манифестах (Вяч. Иванов, Брюсов, Бальмонт). Однако собственно весь «скифский» пласт русской культуры, имеющий долгую предысторию, не поднимался.
Одним из самых патетических мест блоковского стихотворения является восклицание: Да, скифы мы! Да, азиаты мы! – по тону своему очень похожее на ответную реплику в азартном споре. В таком же «режиме спора» (или «диалога», по Бахтину) ведется синхронное обсуждение этой темы в Дневнике Блока: «Тычь, тычь в карту, рвань немецкая, подлый буржуй. Артачься, Англия и Франция. Мы свою историческую миссию выполним. Если вы хоть «демократическим миром» не смоете позор вашего военного патриотизма, если нашу революцию погубите, значит, вы уже не арийцы больше… Ваши шкуры пойдут на китайские тамбурины. Опозоривший себя, так изолгавшийся – уже не ариец. Мы – варвары? Хорошо же. Мы и покажем вам, что такое варвары. И наш жестокий ответ, страшный ответ – будет единственно достойным человека… Последние арийцы – мы» (260–261)175 (курсив мой – И. Б.).