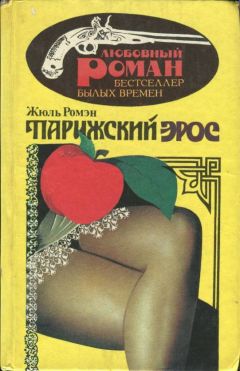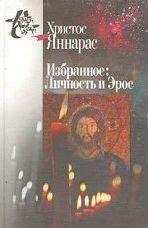Горько-сладкий эрос - Карсон Энн
Повествование Лонга – это непрерывная ткань таких уровней значений, колеблющаяся богатым, но прозрачным полотном над обстоятельствами сюжета, подобно яблоку, раскачивающемуся на ветке. Давайте же пристальнее всмотримся в это яблоко в тексте Лонга. Для того, чтобы «подвесить» яблоко на ветке, автор выбрал довольно любопытный глагол, epeteto («Дафнис и Хлоя», III, 33.4) – форма глагола petomai, «летать». Обычно так говорится о крылатых созданиях или переполняющих сердце эмоциях. Например, этот особенно часто употребляемый при описании эротических чувств глагол выбран Сапфо во фрагменте 31. Здесь Лонг употребляет глагол в имперфекте. То есть он «стопорит» действие глагола во времени (имперфект выражает продолженность действия), и таким образом яблоко, подобно Зеноновой стреле, летит, оставаясь неподвижным. Более того – предложение, в котором летит яблоко, находится с предыдущими предложениями в отношениях парадоксальных и паратактических. Паратактических потому, что союз, присоединяющий это предложение, попросту «и» (kai). Отношения парадоксальны, потому что утверждение «и осталось одно яблоко» противоречит трем предыдущим: «все яблоки были уже собраны. Без плодов и без листьев стояла она, голыми были все ветви». Переводчики Лонга без исключения меняли «и» на «но», так что наглое яблоко внезапно появлялось в нашем грамматическом круге зрения при помощи противительного союза. Но цель Лонга не столь банальна. Его грамматика врывается в привычный круг и разламывает его надвое. С одной стороны, вы видите голое дерево. С другой – вот оно, яблоко. «И» в том, как они соотносятся друг с другом, есть нечто парадоксальное. Лонгово «и» отправляет вас в слепую зону, в точку, откуда видно больше, чем написано буквами.
Лонг довольно требователен к читателям. Привилегированная позиция знающего, которой наслаждаешься при чтении «Дафниса и Хлои», основывается не просто на убеждении, что все закончится хорошо. Лонг пользуется наследием эротических топосов и грамматических тонкостей, известных грамотной аудитории, и с успехом их применяет, желая, чтобы вы испытали непрерывный опыт того регистра умственной деятельности – метафоры, – что больше всего приближен к опыту эроса. Подумайте о том, каково это. По мере чтения романа ваш разум перемещается от уровня героев, эпизодов и ключей к уровню идей, решений и толкований. Это приятное и одновременно болезненное занятие. С каждым смещением мы чувствуем, как что-то теряется или уже утеряно. Толкование мешает чистому погружению в нарратив, портит его. Нарратив упорно стремится отвлечь наше внимание от толкований. Однако разум не желает прекращать ни одного мыслительного процесса и задерживается в точке стереоскопии, между обоими. Они и составляют единое значение. Автор, создающий этот момент пересечения умственной и чувственной активности, добивается любви, – и добивается именно нас. «И автор с книгой своднею нам стал!» [57] – восклицает в Дантовом аду Франческа, ну или так мы прочитали у автора.
Письмена и письма
Слово grammata может переводиться как «буквы алфавита», «письмена», но в греческом (как и в английском) означает еще и «письма, письменные послания». Романы содержат как первые, так и вторые, и предлагают две точки зрения на слепую зону желания. Письмена в широком смысле, то есть, текуче-изменчивый элемент написанного текста, обеспечивают эротическое напряжение на уровне читательского опыта. Электрическая цепь треугольной структуры напряжения идет от автора к читателю и героям; когда точки цепи соединяются, трудная радость парадокса бьет током. В узком смысле письмена-письма, то есть послания или записки, действуют в рамках сюжета различных романов в качестве эротических ухищрений героев именно с таким эффектом, какого можно ожидать: поддерживающим триангуляцию, парадоксальным, электризующим. Однако среди многочисленных форм использования писем в античных романах не встречается эпистолярное признание в любви. Письма движутся по касательной к действию романа, образуя треугольные отношения: А пишет С о B, или же В читает письмо от С в присутствии А, и так далее. Когда в романах читают письма, немедленным последствием становится внедрение парадокса (разом и удовольствие, и боль) в чувства влюбленных и в их действия, с этого момента осложненные отсутствующим присутствием.
Возьмем, скажем, роман Ахилла Татия (III–IV столетие) «Левкиппа и Клитофон», в котором герой, Клитофон, полагая, что его возлюбленной (Левкиппы) нет в живых, собирается жениться на другой, когда вдруг получает письмо от Левкиппы. Он прерывает свадебную церемонию, чтобы прочесть письмо, и «разум, отсылая очи его души к строкам письма» заставляет его «покраснеть, как застигнутый на месте преступления прелюбодей» («Левкиппа и Клитофон», V, 19). Клитофон немедленно садится писать ответ словами, какие «Эрот подскажет», и в первых же строках послания возникает классический треугольник влюбленного, возлюбленной и grammata:
Χαῖρέ μοι, ὦ δέσποινα Λευκίππη. δυστυχῶ μὲν ἐν οἷς εὐτυχῶ, ὅτι σὲ παρὼν παροῦσαν ὡς ἀποδημοῦσαν ὁρῶ διὰ γραμμάτων.
Здравствуй, владычица моя Левкиппа! Я несчастлив в счастье, потому что, хотя я рядом с тобой, увидеть тебя я не могу, а вижу вместо тебя, которая так близко, твое письмо [58].
Далее в письме Клитофон клянется в любви и умоляет Левкиппу блюсти свою невинность до тех пор, пока он не сможет с ней воссоединиться. Написанные послания имеют сущность и полномочия третьего лица – свидетеля, судьи и проводника в эротических спорах. Письма – механизм эротического парадокса, одновременно соединяющего и разделяющего, болезненного и приятного. Письма выстраивают пространство желания, где разжигают противоречивые чувства, заставляя любящего снова и снова осознавать, в каком безвыходном положении он находится. Письма стопорят и усложняют существующую ситуацию из двух участников, волшебным образом призывая третьего, который не присутствует там в буквальном смысле, внезапно делая видимой разницу между действительным (имеющимися и актуальными эротическими отношениями Клитофона с другой женщиной) и тем, что возможно (идеальной любовью Клитофона и Левкиппы). Письма проецируют идеальное на экран актуального. Эрос действует изнутри письма.
Более иератический пример можно найти в романе Гелиодора «Эфиопика». Здесь написанный текст не совсем послание, но действует аналогичным образом. Героиня Гелиодора – белокожая дочь чернокожей эфиопской царицы, которая решает подкинуть дочь после рождения, дабы не вызвать подозрительных расспросов супруга. Хариклею заворачивают в tainia (головную повязку), в которой младенца и находят. Но то не простая tainia — на ней царица вышила надпись, поясняющую, кто эта девочка и почему она белокожая. Так получилось, что ребенка нашли жрецы и воспитали в Дельфах. Проходят годы, и лишь в четвертой книге повествования автор романа дает нам прочесть написанное на повязке. Сцена чтения отодвигается на момент эротического кризиса, когда Хариклея едва жива от страсти к некому Теагену, и надпись на tainia читает жрец, желающий спасти ей жизнь. Тут с помощью tainia царица Эфиопии размыкает уста:
…ἐπειδὴ δέ σε λευκὴν ἀπέτεκον, ἀπρόσϕυλον Αἰϑιόπων χροιὰν ἀπαυγάζουσαν, ἐγὼ μὲν τὴν αἰτίαν ἐγνώριζον, ὅτι μοι παρὰ τὴν ὁμιλίαν τὴν πρὸς τὸν ἄνδρα προσβλέψαι τὴν Ἀνδρομέδαν ἡ γραϕὴ παρασχοῦσα, καὶ πανταχόϑεν ἐπιδείξασα γυμνήν (ἄρτι γὰρ αὐτὴν ἀπὸ τῶν πετρῶν ὁ Περσεὺς κατῆγεν), ὁμοειδὲς ἐκείνῃ τὸ σπαρὲν οὐκ εὐτυχῶς ἐμόρϕωσεν.
Но я родила тебя белой, с кожей, блистающей несвойственным эфиопам цветом. Я-то поняла причину: во время моего сочетания с мужем я взглянула на Андромеду: картина явила мне ее отовсюду нагой – ведь Персей только что стал сводить Андромеду со скалы, – так зачался на несчастье плод, подобный ей.