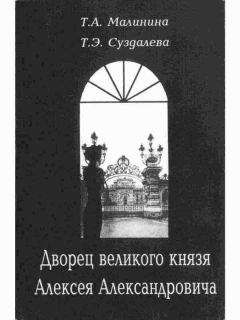Юрий Дмитриев - Русские трагики конца XIX — начала XX вв.
В основном соглашался с оценкой Зубова и другой замечательный советский актер и режиссер А. Д. Дикий. Но он давал Самозванцу, каким его показывал Дальский, еще более жестокую характеристику, утверждая, что у него напор был «чисто ноздревский»[176].
Звучала фраза: «Любовь мутит мое воображение», но произносилась она с явной издевкой. И в следующих фразах: «Но что-то вдруг мелькнуло… шорох, тише. Нет, это свет обманчивой луны, и прошумел здесь ветерок». Самозванец как будто радовался, что это не Марина. Он готов удрать. Но тут слышалось: «Царевич!» Растерявшись, он хватался за скамью и испуганно произносил: «Она» — и тут же усилием воли перевоплощался, «навстречу Марине бежал грациозный, пластичный, «породистый» рыцарь»[177]. И голос вместо хрипловатого становился нежным.
Монолог «Волшебный сладкий голос, ты ль наконец?» можно было положить на ноты. Но это скорее был бальный флирт, чем искренняя любовь. Постепенно Самозванца охватывала страсть. Он обнимал Марину совсем по-мужицки. Слова: «Не мучь меня, прелестная Марина» — звучали угрожающе, ультимативно.
Дмитрий обжигал Марину фразой: «Я не хочу делиться с мертвым любовником» — и, подойдя к ней вплотную, начинал издеваться над безмозглым шляхтичем, приглашая Марину в сообщницы, говоря ей всю правду.
И снова сошлемся на Дикого: «Дальский так произносил слова «польской деве», что они звучали как «девке», а может быть, и хлеще того. Это была почти русская деревня — скандал с бабой! Только так может любить Димитрий, с его сумасшедшим темпераментом, неудержимостью желаний и авантюризмом»[178].
С Лжедмитрием Дальский встретился еще раз в пьесе А. С. Суворина «Самозванец». Здесь он замечательно выделил черты авантюриста. Сын ли он Грозного или нет, не имело существенного значения, но красавица Марина Мнишек действительно могла пойти за таким человеком, веря в его звезду.
В Александринском театре Дальский сыграл несколько ролей в пьесах Островского: Жадова («Доходное место»), Глумова («На всякого мудреца довольно простоты»), Колычева («Василиса Мелентьева»), Николая («Поздняя любовь»). Лучшей его ролью в репертуаре Островского называли Незнамова. В журнале «Дневник артиста» писали: «Г. Дальский прекрасно сыграл роль Незнамова»[179].
Для исполнения этой роли Дальский обладал исключительными данными: отличной фигурой, красиво посаженной головой, непринужденным аристократизмом, не наигранным, не показным, но возвышенным и даже в чем-то таинственным. Все это сразу его выделяло среди других актеров. Но главное — глаза, одновременно холодные и глубокие, печально-загадочные.
Именно в Незнамове Дальский с особенной силой мог выявить бунтарское начало. При первом знакомстве зрители видели затравленного волчонка, ни на что не надеявшегося и ни во что не верящего. И с удивительной убедительностью Дальский показывал, как Незнамов от материнской ласки согревался и оживал. Современник вспоминал: «Буквально на глазах зрителей «подзаборник» превращался в бесконечно чистого, беспомощного ребенка, которого одним только ласковым прикосновением можно взять в плен». После сцены со Шмагой Кручинина спрашивала Незнамова: «Вам не стыдно за своего товарища?» И Незнамов—Дальский растерянно дергал себя за пуговицы своей куртки и, чуть заикаясь, отвечал: «Нет, за себя». Артист ничем не подчеркивал значения этой фразы, как бы открывавшей зрителям нового Незнамова. Он произносил эти слова будто бы наедине с самим собой, мучительно стесняясь своего нечаянного признания… Незнамов целовал руку Кручининой, а Кручинина в ответ на это целовала его в голову. «Что вы, что вы — за что?» — спросил он с таким потрясающим удивлением, что зрительный зал разразился… настоящей овацией»[180].
Служа в императорском театре, Дальский должен был выступать и в ролях текущего репертуара.
Так, в пьесе А. И. Сумбатова-Южина «Закат» он сыграл роль Катула. Перед зрителями представал чудовищный наглец: сильный, властный, хищный, имеющий только то оправдание, что он, проходимец, вступал в борьбу с теми, за кем стояли связи, богатство, чины. Он пьянел от своей злой силы, и женщина могла покориться ему, несмотря на то, что знала: ему доступны все низины подлости, вплоть до торга ею.
В пьесе Е. П. Карпова «Рай земной» Дальский играл Молодого человека, увлеченного работой для народа. Он сталкивался с опытным дельцом. «Это было живое воплощение тех юношей, которые шли на жертвы, на заклание, когда все было порабощено кругом и каждое честное слово становилось подвигом»[181].
Конечно, нельзя сказать, что выступления Дальского в пьесах современных авторов вплетали новые лавры в венок его славы. Дело заключалось прежде всего в драматургии, в тех характерах, которые воспроизводились в этих пьесах. Прав был критик, когда писал: «Уловить «новое», что есть в современной русской действительности, эти господа не умеют и не могут, на это у них не хватает таланта, а вот украсить новыми ярлычками старую залежь они умеют более или менее ловко, чаще менее, чем более»[182].
Выступал Дальский в классических зарубежных комедиях — Мольера, Бомарше, но ему всегда больше удавались роли драматические, чем комедийные.
К сожалению, многие современные зарубежные пьесы, шедшие в ту пору в Александринском театре, также не отличались подлинными художественными достоинствами. Такова была пьеса «Отчий дом» Г. Зудермана, в которой Дальский играл роль Пастора. Задушевные речи этого персонажа требовали от актера только одного — умения быть простым и искренним. У автора эта роль была написана невыразительно, а Дальский силой своего искусства превращал Пастора в красноречивого присяжного поверенного, «щеголевато и не без пафоса отхватывающего свои тирады адвоката-душки, который, чтобы он ни говорил, все кажется, что он в любви объясняется»[183].
Особое место среди ролей, сыгранных на Александринской сцене, занимала роль Парфена Рогожина в инсценировке романа Ф. М. Достоевского «Идиот», сделанной В. А. Крыловым и С. П. Сутугиным (сезон 1899/1900 года). Роль Настасьи Филипповны играла М. Г. Савина, роль Аглаи — В. Ф. Комиссаржевская. Но самый большой успех выпал на долю Дальского. Когда он ушел из театра, играть Парфена оказалось некому и спектакль пришлось снять с репертуара. Как же должен был быть широк диапазон артиста, если он, исполнитель по преимуществу ролей героического плана, играл, и делал это с блеском, сложнейшую роль психологического наполнения.
«В Рогожине, — писал рецензент, — тяжелое горе после разговора с князем было передано артистом сильно и просто. В последнем акте г-н Дальский еще лучше. Полусумасшедший хохот, которым он заканчивал пьесу, — верный и сильный заключительный аккорд»[184].
Артист выходил на сцену в серой поддевке, отороченной мерлушкой, в высоких сапогах. Загадочно сверкали огненные глаза, размашистыми были жесты, какая-то «неделикатная» усмешка блуждала на бледном лице. «Во всей видимости Дальского было что-то мрачное, но бурливое, чувствовалось какое-то кипение в груди его, рвущееся на волю из-под спуда каменного мешка, этого полного мрака дома, где все как будто «скрывается и таится»[185].
Главное — глаза, в них Рогожин весь целиком: огненные, острые глаза бурно страдающего человека, отражающие все, что «таится и скрывается в нем». Когда Настасья Филипповна бросила пачки денег в огонь, Рогожин прямо ошалел при виде ярко вспыхнувшего пламени и с горящими глазами, пьяным смехом, широкими жестами, удалым разбойничьим посвистом, он казался воплощением счастья. Вдребезги разбить самое ценное и пустить под откос то, что собрано путем величайших усилий!
Итак, за время работы в Александринском театре Дальский создал ряд замечательных сценических образов, встал в один ряд с самыми прославленными его корифеями. Но его положение в театре становилось все более трудным.
Многие игравшие в этой труппе актеры были выдающимися художниками, а иные могут быть названы классиками сценического искусства. Однако нельзя забывать, что здесь присутствовал казенный бюрократический дух. Чинопочитание доводилось до высших степеней. Ведущие и давно служащие актеры требовали от окружающих по отношению к себе почтения и даже известной робости. С этим Дальский не хотел считаться. Он и с великим князем Владимиром Александровичем вел себя далеко не почтительно, чуть ли не панибратски. Н. Ходотов вспоминал, как великий князь на банкете в честь Томазо Сальвини, проходя по залу, подозвал актера к себе: «Дальский!» Актер подошел, склонив голову, но четко поправил: «Мамонт Викторович, ваше императорское высочество».
Великий князь захохотал: «А ведь сознайся, старик (то есть Сальвини. — Ю. Д.) переиграл тебя». Дальский нашелся и ответил: «Вернее, — я не доиграл, ваше высочество!»[186].