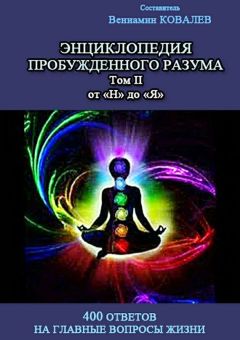Владимир Абашев - Русская литература Урала. Проблемы геопоэтики
Обмен взглядами завершается победой героя, и лирический сюжет пермского цикла (и в целом первых трех книг) строится именно так: как преодоление Перми, победа в поединке:
Пермь, у ореха внутри тоже кривляется ночь.
Сколько ж орехов сломать, чтобы с твоею сравниться?
Ты опознала меня? (То-то пустилася вскачь.)
Да, это я из тебя страшную вырвал страницу (П, 70).
Тема преодоления Перми строится у Кальпиди многомерно. В пространстве пермского мифа развертывается и орфическая тема поэта-героя:
Приди мне в голову, что Пермь сродни аиду,
что я почти Орфей, спускающийся в ад,
я б наказал себя билетом на «Аиду»
и, чтоб наверняка свихнуться, в первый ряд (С, 30).
Тень Орфея, хотя и остранена здесь ироническим жестом (типический для Кальпиди прием сравнения через отрицание), помянута не всуе. Это глубинная проекция самоощущения Кальпиди, его понимания задач и масштабов ответственности поэтического призвания. Здесь он сосредоточенно серьезен, и обычное для него травестирование мифа не снижает пафоса темы. Поэт-герой призван, чтобы спасти мир. И эта тема решается как раз в связи с Пермью.
И кто-то Черный, пачкаясь в пыли,
ввернул в патрон с гранитною резьбой
Пчелиную конструкцию Перми
и свет включил, и – выпрямился рой.
Кто этот город сочинил сполна?
Кто кукловод? На ниточках: волна,
заводик, соль, чья роль так солона
<…>
И город, что на ниточках дрожит,
дрожит и не испытывает боль
и все-таки дрожит, как реквизит,
играющий глухонемую роль.
Но я зайду за реечный восток,
за сочиненный проволочный дождь
спросить: «насколько подлинный висок
пульсирует, вминированный в дочь?»
И нити я обрежу, и тогда
плеснет с небес картонная вода,
и прочая расклеится погода
над мусорною косточкой Перми,
и ровно в семь, нет! – около семи
на алфавит рассыплется природа.
Я из гербария состряпаю траву
и подогрею на сухом пару,
внедрю в нее шмеля густую тень
и с вавилонского на наш переведу
его гудок-перевертень:
«Увиж-жу-у луг и гул «у-у», ж-живУ» (А, 46).
Это стихотворение вносит новый и принципиально важный мотив в пермский текст Кальпиди: Пермь – это и хтоническое чудовище, и жалкая жертва инфернальных сил. Встречается этот мотив, конечно, и в других текстах, он системен: «Пермь – затравленная мышь» (А, 45); «беглая Пермь» (П, 119); «Пермь – детдом» (А, 45).
Другой важнейший, кроме поединка, аспект пермского лирического сюжета у Кальпиди – это инициация героя. Погружение героя в Пермь, познание чудовищной тайны открывшегося пространства и преодоление ее в героическом поединке составляют звенья поэтической инициации. В целостном составе этот сюжет разворачивается в большом стихотворении В. Кальпиди «Несколько лестничных клеток…», которое, по существу, и хронологически (1993 год), и логически завершает пермский цикл Кальпиди.
Ритмико-интонационный и синтаксический рисунок первой строки: «Несколько лестничных клеток его отделяют от / летнего августейшества тополевых седин» (С, 87-90) сразу вводит нас в литературный контекст темы. Это прямая отсылка к «Осеннему крику ястреба» Иосифа Бродского. Провокативное имя героя – Сережа Набоков – обозначает другой литературный ориентир, в поле которых выстраивает свой путь Виталий Кальпиди. Внешний лирический сюжет стихотворения – прогулка по городу, маршрут которой выстроен в тексте в деталях, и любой читатель, знакомый с топографией Перми, восстановит его без усилий.
Вообще городская прогулка как сюжет – это отдельная тема, поскольку здесь мы имеем дело с определенной культурно-символической формой взаимоотношений человека с миром. Недаром прогулка так тесно связана с поэзией, и нередко она входит в текст лирического стихотворения как организующий его мотив: «Брожу ли я вдоль улиц шумных». Прогулка имеет существенное отношение к познанию и самопознанию31.
Так и в повседневности: отношения человека к городу не ограничиваются утилитарной стороной, прогулка – одна из форм функционально невынужденных отношений человека с городом уже как с символическим объектом. Утилитарно бесцельные наши блуждания по улицам есть не что иное, как различные формы коммуникации с городом, который в таких случаях выступает перед человеком прежде всего своей означающей текстовой поверхностью. В прогулке город открывается как «собеседник» или играет роль кода, помогающего нам что-то уяснить в самих себе, или воспринимается как сообщение, которое мы перечитываем, открывая в нем что-то новое.
Именно в этом аспекте и разворачивается прогулка по Перми в стихотворении о городской одиссее Сережи Набокова:
Прогулка его по городу – не вылазка в зоопарк,
а сложное путешествие пламени по свече,
в сравнении с чем открытия остросюжетной Ост —
Индии – прятки стекол из детской игры в «секрет» (С, 88).
Герой действительно совершает настоящее путешествие, погружаясь в сложную и живую игру с городом. Это духовное приключение, где город проявляет себя как живое сознающее существо, личность, с которой герой вступает в контакт. Из такого путешествия нельзя вернуться прежним. И Сережа Набоков в своем странствии через Пермь переживает озарение, он посвящается в поэзию:
Мимо тюряги, кладбища мимо,
минуя мост, в пьяную Мотовилиху вырулил наш поэт <…>
Он шел, затаив под сердцем суетность воробья,
навязчиво приборматывая к дюжине слов мотив,
смысл которых падал внутри самого себя
в обморок (бракадабре мелоса уступив
пальму, каштан, березу первенства; и метель
звуков першила в горле, а на пролом слюны
ринулась, то и дело переходя на трель,
я бы сказал, прохлада длиною в длину длины.
Сережа икнул от счастья, чихнул и устал; над ним
щепотками белой соли вечерние мотыльки
кружили, врывались в волосы и, не образуя нимб,
к нимбу-таки стремили воздушные вензельки.
Мелькнули гусиной кожей покрытые плечи – дочь;
прошли вереницей жены, свернулась в морщину мать;
над Камой, где – перевернутый при отраженьи треЧ
кривлялся, элементали летали людей имать;
из глаз выливались слезы: Сережу скрутил восторг
разлуки; он видел город как бы через стекло
рифленое; постепенно он двинулся на восток,
куда его полунечто влажное повлекло;
вибрация, как печати, с него сорвала виски
(цензура правдоподобья смолчала), глаза назад
с трудом поглощали зренье, шуршащее, как пески,
но здесь – затемненье в тексте, чему я отчасти рад.
Сползала река за туго натянутый горизонт,
проклюнул скорлупку сферы неведомый нам птенец
и засуетились звезды, имея на то резон —
успеть помигать, покуда я не написал: КОНЕЦ (С, 89, 90).
Прогулка по Перми превращается в посвящение, инициацию. Недаром в описание состояния героя прокрадывается обычный для изображения шаманской / поэтической инициации мотив расчленения-трансформации тела: «вибрация, как печати, с него сорвала виски».
Тема инициации объединяется с темой разлуки с городом: он познан и преодолен. И в этом смысле слово «конец», завершающее стихотворение о Сереже Набокове, накладывает рамку на пермскую тему в поэзии Кальпиди.
Тема прощания с городом, завершенная в этом стихотворении, была развернута в ряде стихотворений книги «Аллергия», оставшейся в рукописи. Там она звучала без той интонации примирения, с которой звучит стихотворение «Несколько лестничных клеток…», а, скорее, с оттенком некоей ярости разрыва, преодоления. Прощаясь с городом, Кальпиди деконструировал собственный миф:
Траура знак: я сбриваю за бровью бровь,
режу ресницы. Теперь хоть базальт буровь
(или бури?) рассекреченными глазами.
С неводом злой сетчатки пускаюсь вплавь
и обнаружу, что пермская эта фря
(кем, как страшилкой, годами пугал зазря
я население) – архитектурная сплетня
без головы (но не всадника), без царя
в той голове, что увидеть, увы, нельзя.
Но научил я поэтов кричать «банзай!»
городу-выдумке, брешущему (см. лай
чистопородных дворняг шерстяных, репейных).
Город-фантазм, придумка, а не Бабай…
<…>
Не было города, не было страха, не
б у д е т в моей биографии и во сне (Ал, 62, 63).
В этом стихотворении отчетливо звучит важный для понимания пермского цикла Кальпиди мотив преодоления детского страха. Хтоническая Пермь – это даже не Бабай, которым пугают детей, а фантазм сознания. С этим мотивом вскрывается психологический аспект отношений Кальпиди с Пермью, которую можно рассматривать как проекцию глубоких психологических конфликтов, коренящихся в травмах детского сознания. Психоаналитический аспект творчества Кальпиди – это большая и важная тема. Мы коснемся ее лишь в нужном для нас аспекте.
Интересно заметить, что прощание с городом у Кальпиди сопровождается мотивом изменения родовой принадлежности города с женского на мужской: «город-мужчина, двусмысленно названный: «наша красавица Пермь» (Ал, 13); «я продаваться приехал в серьезный Пермь, / видимо, первый присвоив мужицкий род / городу», «а Пермь – и рад!» (Ал, 62). Это весьма значимый, переломный, момент развития мифа Перми. У Кальпиди как в содержательно-символической, так и в языковой проекции фиксируется преодоление зависимости от Перми – Страшной Матери.