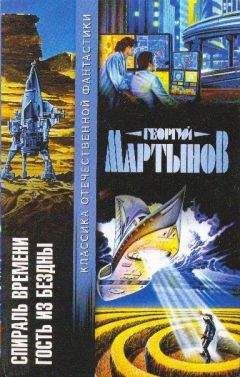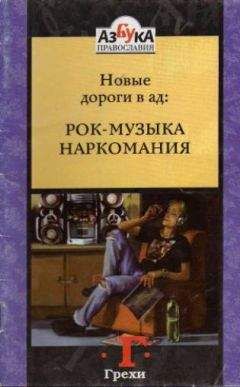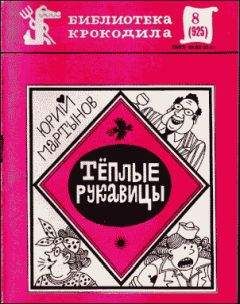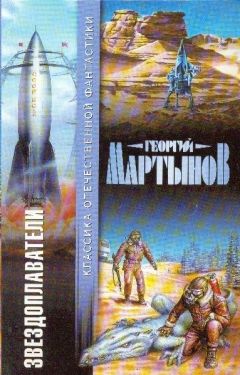Владимир Мартынов - Зона opus posth, или Рождение новой реальности
Именно эта математичность и геометричность музыки res facta на рубеже XVI–XVII веков начинает восприниматься как нечто негативное. Для зачинателей opus–музыки становится абсолютно неприемлемым сам принцип контрапункта, который, по словам Джулио Каччини, уничтожает мысль, не дает расслышать слова, портит стих и раздробляет поэзию. Такое отношение к контрапункту делается возможным потому, что в музыке перестает править число и начинает править слово. Теперь музыка — это «не что иное, как слово, затем ритм и, наконец, уже звук, а вовсе не наоборот»[22]. Но если в музыке правит именно слово, то это значит, что музыка перестает быть областью числовых и геометрических уподоблений и начинает пониматься как язык. Несколькими страницами ранее мы пытались уже заговорить о музыке как о языке. Но тогда нам пришлось прерваться, для того чтобы показать, что понятие языка приложимо только к области opus–музыки и совершенно несовместимо с природой музыки res facta. Теперь мы можем вернуться к прерванному разговору и более внимательно рассмотреть ту абсолютно неповторимую ситуацию, при которой музыка становится «языком сердца», или, говоря по–другому, мы должны будем рассмотреть феномен музыки, превратившейся в язык.
Когда мы говорим о том, что музыка становится языком и что в музыке начинает править слово, то это вовсе не означает того, что мы говорим только о вокальной музыке, которая следует за словом, передавая его эмоционально–психологическое состояние. Это означает, что звуковая субстанция музыки обретает свойства слова, более того, она сама становится неким «музыкальным словом», не нуждающимся уже в словах языка, как это мы можем видеть на примере чисто инструментальной музыки. Подобно слову, звуковая субстанция музыки обретает способность выражать или представлять представления, и отныне выражение превращается в сущность музыки. Несколько перефразируя уже цитированные слова Фуко, можно сказать, что музыка получила задачу и возможность представлять мысль, и отныне смысл ее существования сводится к выражению представлений. Музыка не имеет больше ни иного места, кроме представления, ни иной ценности, как в нем: музыка существует в том пространстве, которое представление может приводить в порядок. Сказанное означает, что, получив задачу и возможность представлять мысль и выражать представления, музыка тем самым обрела содержание, и содержанием этим являются не просто представляемые или выражаемые представления, но то «пространство, которое представление может приводить в порядок», а этим пространством является не что иное, как абсолютное наличие или, вернее, самоналичие, предоставляемое субъектом самому себе. Таким образом, содержание, обретенное музыкой, есть упорядоченное пространство самоналичия, в котором, как сказал бы Хайдеггер, представление представлено или предоставлено вместе с представляющим его «Я».
В этом смысле феномен содержания присущ только opus–музыке, ибо о содержании можно говорить только там, где имеет место выражение, а это значит, что в музыке res facta, сущностью которой является уподобление и воспроизведение, не может быть никакого содержания. Если все же попытаться хоть как–то говорить о содержании в музыке res facta, то тогда под этим содержанием нужно будет понимать то, что воспроизводится в процессе воспроизведения. Содержанием мессы Malheur me bat тогда будет воспроизводимая в мессе шансон Malheur me bat, содержанием мессы Fortuna desperate — шансон Fortuna desperate. Но можно ли считать содержанием произведения то, что существует вне и помимо произведения и что будет продолжать существовать даже в том случае, если само произведение, обладающее этим содержанием, вообще не будет создано? Если такое и возможно, то только в силу инерции, заставляющей полагать, что музыка изначально обладает содержанием и что без содержания музыки вообще не может быть. Однако на самом деле содержание у музыки появляется только тогда, когда музыка начинает пониматься как язык, ибо язык — это выражение, а выражение — это выражение содержания.
Возникновение феномена музыкального содержания есть следствие того, что музыка удаляется из сферы форм бытия и водворяется в сфере форм представления. Мир перестает быть вместилищем и источником музыкального звучания, ибо отныне причина существования музыки укореняется в человеческом «Я». В то же самое время возникновение феномена содержания знаменует собой рождение автора. Тот самый автор, смерть которого была констатирована в середине 60–х годов XX века, появился на свет именно тогда, когда музыкальный звук начал рассматриваться как средство выражения, ибо автор — это человек, который выражает, или предоставляет, свои представления через посредство музыкальных звуков. Музыкальные звуки, расположенные автором в определенном, установленном им самим порядке, перестают быть просто звуками и превращаются в авторское высказывание или в авторское сообщение.
Любое высказывание или сообщение существует не само по себе, оно обязательно подразумевает наличие адресата. Музыкальные звуки, организованные автором и превратившиеся в произведение–высказывание, также начинают подразумевать наличие адресата. И этим адресатом становится слушатель музыкального произведения. Так у музыки появляется слушатель.
Здесь нужно преодолеть еще одни предрассудок, заставляющий полагать, что музыка изначально предполагает слушание и что каждый вид музыки обязательно подразумевает наличие слушателя. На самом деле это не совсем так. Не вдаваясь пока что в подробное обсуждение этой темы, укажем лишь на то, что в музыке res facta подразумевается не столько ситуация слушания музыки, сколько ситуация пребывания в музыке. Ведь если музыка «пребывает в сфере форм бытия», то человек, представляющий собой одну из форм бытия, пребывает в той же сфере, а это значит, что и музыка и человек, пребывая в одной сфере, соучаствуют и даже пребывают друг в друге. Целенаправленное слушание музыки вносит неизбежное отчуждение между музыкой и человеком. Будучи проводником субъект–объектных отношений, целенаправленное слушание разрушает ситуацию пребывания музыки в человеке и человека в музыке, в результате чего и музыка и человек выталкиваются из сферы форм бытия и водворяются в сфере форм представления.
Эту ситуацию можно проиллюстрировать на примере многоголосной мессы XV–XVI веков. Части композиторской мессы входят в общий контекст мессы и совместно с другими песнопениями и молитвословиями образуют то пространство богослужения, в котором должен пребывать и участвующий в богослужении человек. Если человек начинает целенаправленно слушать композиторские части мессы, обращая на них сугубое и пристальное внимание, то тем самым он неизбежно разрушает ситуацию пребывания, в результате чего он выпадает из пространства богослужения и выталкивает из этого пространства части, написанные композитором. Реальное пребывание в пространстве богослужения подменяется пребыванием в пространстве представлений о богослужении. Для того чтобы сохранить ситуацию пребывания и не выпасть из пространства богослужения, необходимо обладать способностью к тому периферическому расфокусированному зрению, о котором мы писали в предыдущей главе. Сознание, обладающее способностью подобного зрения, не пытается рассмотреть или расслушать конкретный визуальный или звуковой объект и не пытается противопоставить себя ему, но стремится увидеть или услышать общую ситуацию и общее пространство, в котором находятся и объект, и рассматривающее или расслушивающее его «Я». Сознание, переставшее противопоставлять себя музыке, переставшее внимательно и целенаправленно вслушиваться в музыку, обретает шанс вписаться в некое общее пространство, в котором музыка пребывает в сознании, а сознание в музыке — это и есть та идеальная точка, к которой стремится музыка res facta. Таким образом, установка на целенаправленное слушание музыки входит в противоречие с природой музыки res facta, и если мы хотим понять, что такое есть музыка res facta, то должны отказаться от желания целенаправленно слушать ее.
Однако уже в самих письменных способах фиксации музыки res facta можно выявить целый ряд механизмов, препятствующих тому, чтобы звуковая субстанция могла подлежать прямому целенаправленному услышанию. Начать можно хотя бы с того, что целостный замысел произведения письменно фиксировался только на tabula compositoria и был доступен только самому композитору, в то время как всем остальным в удел доставались лишь партии, разнесенные по разным местам листовой хоровой книги. Но даже эти партии очень часто подлежали различного рода сокрытиям и зашифровкам. В качестве наиболее известных примеров таких сокрытий и зашифровок можно привести две мессы Окегема, а именно Missa Cuiusvis toni и Missa Prolationum. В партиях Missa Cuiusvis toni не проставлены ключи, и для того чтобы воспроизвести задуманную Окегемом звуковую структуру, необходимо вычислить комбинацию ключей, способную раскрыть точный звуковысотный рисунок каждой партии. В Missa Prolationum две партии вообще не выписываются, а их звуковысотный рисунок должен вычисляться на основе указаний, предпосланных к двум выписанным партиям. Подобное зашифровывание звуковысотного рисунка мелодических линий мы можем встретить и у Обрехта, и у Жоскена, и у Пьера де ла Рю, и у многих других композиторов XV–XVI веков. Эта тенденция к сокрытию и зашифровке будет особенно впечатляюща, если мы сопоставим ее с той скрупулезностью, с которой проставлялись штрихи и оттенки в нотных текстах XIX–XX веков. Кроме того, сама звуковая ткань музыки res facta буквально переполнена каноническими и прочими структурными ухищрениями, которые практически не могут быть восприняты слухом. Все это придает музыке res facta характер закрытости, герметичности и даже эзотеричности. Эта закрытость и герметичность музыки res facta оберегает ее от прямого целенаправленного акта слушания и не дает ей превратиться в только лишь предмет субъект–объектных отношений.