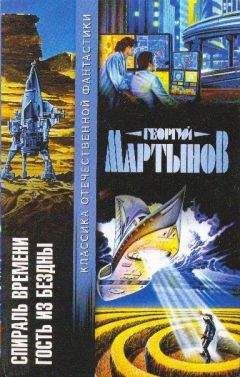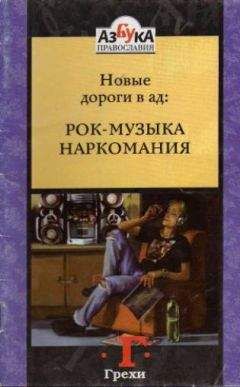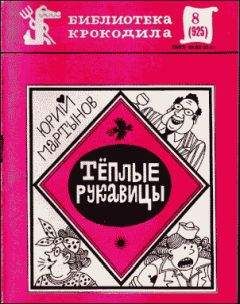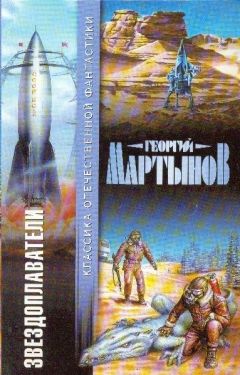Владимир Мартынов - Зона opus posth, или Рождение новой реальности
Ангельское пение и гармоническое звучание космоса также уходят за пределы реальности. И дело здесь не в том, что эти явления вдруг перестают существовать, что их перестают считать реально существующими или в них перестают верить, но в том, что существование ангельского пения и гармонического звучания космоса делается несовместимым с методами мышления, основанными на прямолинейном движении сознания. Реальное приобщение сознания к ангельскому пению и гармоническому звучанию космоса может осуществляться только через уподобление и воспроизведение. А уподобление и воспроизведение возможно только в условиях кругообразного движения, порождающего состояние пребывания всего во всем. При прямолинейном движении уподобление и воспроизведение изначально невозможны, ибо суть прямолинейного Движения заключается в постоянном произведении различий. Если постоянное произведение различий становится единственным гарантом и залогом реальности, то уподобление и воспроизведение превращаются не просто в некие досадные недостатки вроде резонерства, тавтологии или плагиата, но в недостатки фундаментальные, т. е. в такие недостатки, которые свидетельствуют о «нехватке реальности», о неукорененности в Бытии.
Реальность прямой линии — это реальность раздельного существования человека, мира и Бога. Теперь человек, мир и Бог занимают свои отрезки на прямой линии. И эти отрезки не могут ни накладываться друг на друга, ни пересекаться друг с другом. Ибо как наложение отрезков, так и их пересечение означает разрушение реального существования линии. То, что человек перестает пребывать в мире и Боге и начинает существовать «наряду» с ними, сам по себе, приводит к перемене статуса музыки, ибо как небесное пение ангелов, так и космическое звучание остаются за пределами того отрезка линии, который принадлежит человеку, в результате чего само наличие музыки в мире начинает зависеть только от человека. Если ранее музыка была тем, что существует вне человека и помимо человека, то теперь музыка становится тем, что существует только в человеке и только через его усилия. Человек не может воспроизводить того, в чем он не пребывает, но человек может производить представления о том, с чем он соприкасается. Отныне музыка перестает быть воспроизведением неких божественных или космических моделей и становится производством представлений, при помощи которых человек упорядочивает свои взаимоотношения с миром и Богом. Именно здесь полагается конец всем двусмысленностям и неопределенностям, связанным с понятиями произведения и автора, свойственными музыке res facta, и именно с этого момента мы можем говорить о произведении и об авторе как о совершенно определенных однозначных понятиях.
Таким образом, феномен произведения и фигура автора могут появиться только тогда, когда музыка, как сказал бы Фуко, удаляется из сферы форм бытия. Музыка перестает быть тем от века существующим божественным или космическим языком, который вычитывается и толкуется композитором в процессе написания мессы или мотета, и превращается в язык, при помощи которого человек фиксирует и выражает свои представления о Боге и космосе. Если раньше человек должен был вписываться в божественный или космический порядок, то теперь Бог и мир становятся предметом упорядочивания, осуществляемого человеком. Но если человек сам определяет тот или иной порядок, то это значит, что он перестав быть медиумом, комментатором или проводником неких высших порядков и становится именно инициатором или автором предлагаемого им самим порядка. Отсюда можно сделать заключение, что музыка теперь также должна представлять собой порядок. Музыкальное произведение есть определенный, установленный автором порядок звуков, и именно этот неповторимый порядок, а отнюдь не отсылки к неким «авторитетным» моделям, составляет отныне суть музыки. «Отношение к Порядку, — пишет Фуко, — в такой же мере существенно для классической эпохи, как для эпохи Возрождения — отношение к Истолкованию. И как истолкование в XVI веке, сочетая семиологию с герменевтикой, было, по существу, познанием подобия, так и упорядочивание посредством знаков полагает все эмпирические знания как знания тождества и различия»[20]. Сказанное Фуко не следует понимать в том смысле, что в эпоху Возрождения Истолкование не дает места Порядку, а в классическую эпоху Порядок исключает Истолкование. Просто в эпоху Возрождения порядок (божественный или мировой) реализуется только через истолкование его человеком — именно поэтому каждое произведение, относящееся к музыке res facta, и представляет собой воспроизведение или истолкование некоей внеположной мелодической модели. А в классическую эпоху порядок, устанавливаемый автором, может иметь множество истолкований — именно поэтому в условиях opus–музыки одно и то же произведение обрастает целым рядом исполнительских интерпретаций. Стало быть, Фуко говорит не о каком–то абстрактном порядке, не о «порядке вообще», но о порядке, который устанавливается, определяется и удостоверяется самим человеком, и только человеком. В музыке этот порядок достигается и обеспечивается принципом композиции.
Переход от принципа varietas–композиции к принципу композиции есть переход от сложного сочетания кругообразного и прямолинейного движения к движению исключительно прямолинейному. Сочетание кругообразного и прямолинейного движения образует контрапункт. В книге «Конец времени композиторов» уже достаточно подробно был рассмотрен феномен контрапункта и его отличие от феномена полифонии, поэтому мы не будем здесь останавливаться на этой теме. Напомним лишь вкратце, что контрапункт — это не только техническое понятие, это не только искусство сочетания самостоятельных мелодических линий друг с другом, ибо понятие контрапункта выходит за чисто музыкальные рамки и указывает на сочетание и сосуществование различных принципов или различных состояний сознания. Контрапункт — это интеграция различных начал в единое пространство, в то время как полифония — это дифференциация единого пространства на составляющие его элементы. Уже в самом словосочетании varietas–композиция заложен контрапункт двух принципов — принципа varietas и принципа композиции. Практически это означает, что на круг, образуемый пригнанностью, соперничеством, аналогией и симпатией, накладывается прямая линия, образующаяся между тождеством и различием. Это совмещение кругообразности и прямолинейности порождает множество контрапунктов, существующих на разных уровнях: контрапункт божественного и человеческого, контрапункт вечного и временного, контрапункт внеавторского и авторского, контрапункт структуры модели и структуры ее воспроизведения, наконец, контрапункт отдельных голосов, образующих произведение, в результате чего возникает небывалое контрапунктическое богатство ткани и контрапунктическое богатство смысла, свойственное музыке XV–XVI веков. Но все это контрапунктическое богатство является следствием совмещения неких уже наличествующих порядков с воспроизведением и толкованием этих порядков человеком, а такое положение становится несовместимым с новой установкой, определяющей человека как единственного гаранта устанавливаемого им самим порядка. Теперь, когда все превращается в представления человека и все исчерпывается этими человеческими представлениями, не может уже идти речи ни о каких контрапунктах, ни о каких одновременных существованиях различных смыслов. Речь может идти только об упорядочивании представлений, которое осуществляется самим же человеком путем расположения этих представлений в линейном порядке последовательного изложения. Именно в этом заключается суть перехода от принципа varietas–композиции к принципу композиции и от контрапункта к гомофонно–гармоническому складу.
Но что означает это упорядочивание представлений, осуществляемое путем расположения представлений в линейном порядке последовательного изложения? Это означает, что упорядочивание представлений осуществляется в форме языка, почему на рубеже XVI–XVII веков язык и начинает занимать господствующее положение. О господствующем положении языка в классическую эпоху Фуко пишет, что оно стало таковым постольку, «поскольку слова получили задачу и возможность «представлять мысль». […] Язык представляет мысль так, как мысль представляет себя сама. Для того чтобы образовать язык или вдохнуть в него жизнь изнутри, требуется не существенный и изначальный акт обозначения, а только существующая в сердцевине представления присущая ему способность представлять самого себя, то есть анализировать самого себя, располагаясь часть за частью под взглядом рефлексии, и отсылать себя к своему заместителю, который его продолжает. В классическую эпоху все дано лишь через представление; однако тем самым никакой знак не возникает, никакое слово не высказывается. Никакое слово или никакое предложение никогда не имеет в виду никакого содержания без игры представления, которое, отстраняясь от себя самого, раздваивается и отражается в другом, эквивалентном ему представлении. Представления не укореняются в мире, у которого они заимствовали свой смысл; сами по себе они выходят в пространство, которое им свойственно, и внутренняя структура которого порождает смысл. И здесь, в этом промежутке, который представление устраивает для себя самого, находится язык… До предела заостряя мысль, можно было бы сказать, что классического языка не существует, но что он функционирует: все его существование выражается в его роли в выражении представлений, он ею точно ограничивается и в конце концов исчерпывается. Язык не имеет больше ни иного места, кроме представления, ни иной ценности, как в нем: он существует в том пространстве, которое представление может приводить в порядок»[21].