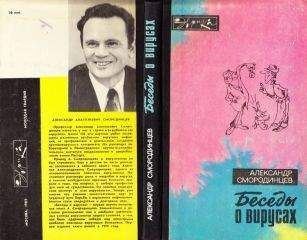Нина Меднис - Поэтика и семиотика русской литературы
Как показывают фрагменты десятой главы, и в начале 30-х годов для Пушкина остается важной тема восставшего Неаполя, а значит, вполне ожидаемо ее появление в близких по времени создания произведениях, к каковым принадлежит и повесть «Египетские ночи». Согласно точному наблюдению О. Б. Лебедевой, не всегда замечаемая читателями повести фраза: «У подъезда стояли жандармы», – весьма прозрачно намекает на политические нюансы, казалось бы, обычного светского раута, пусть и с необычной программой, то есть с выступлением импровизатора. «В функции корпуса жандармов, – пишет она, – никоим образом не входила охрана общественного порядка при массовых скоплениях публики, но, напротив, в них входил надзор за неблагонадежными и инакомыслящими. И если предположить наличие такового элемента среди присутствующих на выступлении импровизатора в гостиной княгини **, то им, скорее всего, окажется сам “неаполитанский художник”»[91]. Добавим к этому, что в начале повести об итальянце говорится: «Встретясь с этим человеком в лесу, вы приняли бы его за разбойника; в обществе – за политического заговорщика <…>» (VI, 374). Поскольку выступление импровизатора происходит именно в обществе, заявленный в начале повести скрытый микросюжет и далее реализует свою логику, что оборачивается неизбежным появлением жандарма у подъезда дома княгини **.
Таким образом, Томмазо Сгриччи оказывается фигурой, к которой сводятся все, казалось бы, разрозненные, но соединившиеся в повести Пушкина начала: он блестящий импровизатор, итальянец, познакомивший неаполитанскую публику со своим творением о Клеопатре. И все это могло стать известно Пушкину из ряда источников, среди которых не последнее место занимают два, доселе в интересующем нас контексте не упоминавшиеся – заметка в «Вестнике Европы» за 1824 год и пятая статья «Размышлений и разборов» Катенина.
Финалы микросюжетов в романе Пушкина «Евгений Онегин»
В «Записях и выписках» М. Л. Гаспарова есть такой фрагмент: «Концовки горациевых од похожи на концовки русских песен – замирают и теряются в равновесии незаметности. Кто помнит до самого конца песню “По улице мостовой”? А от нее зависит смысл пушкинского “Зимнего вечера”»[92].
В разных вариантах песенного текста таких финалов два: в одном актуализируется бескорыстие, в другом – присутствие у ворот строгого батюшки, и заканчивается эта версия многозначным междометием «Ой!», которое оставляет финал открытым. Трудно сказать, знал ли сам Пушкин финал этой песни, и если знал, то какой из них, либо тот и другой. Так или иначе, нас в этом случае в первую очередь интересует замечание М. Л. Гаспарова о финалах, которые «замирают и теряются в равновесии незаметности». Такого рода финалы у Пушкина известны. Здесь можно говорить и о его незавершенных произведениях, и о раскачивании финала трагедии «Борис Годунов», о чем писал С. Г. Бочаров в статье «Возможные сюжеты Пушкина»[93], и, конечно, о финале романа «Евгений Онегин», в отношении которого Б. Гаспаров справедливо заметил, что «развязка пушкинского романа в стихах (вернее, основной его сюжетной канвы, заключенной в восьми главах) построена по принципу “анти-финала” <…> Роман завершается внезапно, неожиданно для читателя и даже, как будто, для самого автора»[94]. Известно, что Иван Киреевский первые шесть глав «Онегина» искренне считал лишь началом романа[95]. Естественно, что при таком восприятии финал восьмой главы не может ощущаться как финал произведения в целом, и объявляющие о нем XLIX-LI строфы вызывают вполне закономерный в этом случае читательский протест[96]. Однако в приведенной фразе Б. М. Гаспарова мы хотели бы обратить особое внимание на взятое в скобки уточнение: речь у него идет не о развязке романа вообще, о которой мы можем судить лишь гипотетически, и не о конечной границе текста, а только о сюжетной канве, заключенной в восьми главах. В свое время Ю. Н. Чумаков показал, что текст романа «Евгений Онегин», при всей его композиционной дробности, темпоральной разорванности, рокировочности, представляет собой явление цельное и по природе своей континуальное[97]. Иначе обстоит дело с сюжетом, который, по крайней мере, в постмифологическую и доавангардную эпоху, несомненно, дискретен, ибо его древовидная структура развивается за счет при– и прорастания отдельных микросюжетов. Их удаленность от стволовой сюжетной линии может быть разной, как и степень их самостоятельности в структуре целого. Относительно романа «Евгений Онегин» был, видимо, абсолютно прав Е. С. Хаев, заметивший, что текстуальное единство пушкинского романа «вероятно <…> несюжетного порядка»[98], и блестяще показавший фрагментарность романного сюжета, по крайней мере, с точки зрения разорванности сюжетных мотивировок.
Мы намерены взглянуть на сюжет романа «Евгений Онегин» с другой позиции и поговорить о пролегании в нем внутренних границ, отмечающих финалы сюжетных сцен, эпизодов, микросюжетов, то есть о том, что Ж. Женетт, со ссылкой на П. Фонтанье, называет фигурой «прерывистости»[99].
При всей сложности вынесения эстетического приговора тому или иному произведению мы легко и с полным основанием отваживаемся на такой шаг, когда видим, что автор произведения явно пребывает не в ладах с мерой, то есть не чувствует задаваемых природой текста границ. К внутрисюжетным границам это относится в максимальной степени, поскольку неотграниченность, а тем более неограниченность какого-либо микросюжета, может взорвать текст изнутри, изменив его природу. В сущности, каждый микросюжет – это, в потенциале, отдельный смежный сюжет, способный создать относительно автономную единицу и тем самым преобразовать текст в гипертекст, примером чего может служить трансформация текста чеховской «Чайки», предпринятая Борисом Акуниным. Однако усилием воображения можно представить себе подобную гипертекстовую структуру, которая возникнет, если какой-нибудь наделенный безудержной смелостью автор решит развернуть в многоплановый дискурс все микросюжеты романа «Евгений Онегин», которые у Пушкина отмечены внутренней динамичностью, но остановлены в развитии вербальным знаком границы в виде слов «наконец», «пора», «довольно» и им подобных[100]. Такого рода знаки последовательно вводит поэт, соблюдавший абсолютную меру, позволившую сохранить в качестве монотекстового сюжетный корпус романа, отличающегося беспрецедентной по тем временам широтой тематики. Употребление Пушкиным каждого из упомянутых слов чревато отдельным научным сюжетом, но мы рассмотрим только одну из фигур, указывающих на сюжетную прерывистость – ситуации, помеченные словом наконец.
Насколько нам известно, никто из исследователей творчества Пушкина не обращал внимания на его любовь к этому слову, обозначающему, как правило, некий ситуационный предел, границу события или цепочки событий. Между тем, значительное превышение средней частоты использования Пушкиным этого слова заметно невооруженным глазом. Однако дабы не погрешить против статистики, приведем несколько цифр. Согласно частотным словарям русского языка, среднестатистическая встречаемость этого слова в разного рода текстах составляет 0,035 %. У Пушкина, к примеру, в романе «Евгений Онегин» она вдвое выше – 0,07%. Чтобы соотнести эти данные с аналогичными у писателей XIX века, приведем только один очень показательный пример: во всем творчестве Л. Толстого мы обнаружили около 400 случаев употребления этого слова; у Пушкина, при несравнимо меньшем объеме написанного, – около 330.
Именно это слово, становясь своеобразной фигурой прерывистости, часто отмечает в произведениях Пушкина внутритекстовую границу того или иного микросюжета, то есть его завершение, исчерпанность. В романе «Евгений Онегин» мы обнаруживаем множество промежуточных финалов, маркированных именно таким способом.
Известно, что всякий микросюжет, как и сюжет в целом, устремлен к финалу, и слово «наконец» сигнализирует в таких случаях об интенсивном движении, достигшем некоего предела, либо вообще пресекает это движение, либо требует смены вектора:
Служив отлично-благородно,
Долгами жил его отец,
Давал три бала ежегодно
И промотался наконец[101].
И далее фигура отца героя Пушкина не интересует. Однако, как многократно отмечали исследователи, всякая граница двустороння – одна ее сторона указывает на завершение какого-то ряда, другая – на начало иного, смежного с первым.
Слово наконец в качестве знака границы не является исключением: оно, с одной стороны, фиксирует предел, к которому устремлены ожидания, ретроспективно актуализируя сам период ожиданий. В этом смысле все то же слово, обращая время вспять, прочерчивает ретроспективу, очень скупо, всего в трех стихах (но благодаря этому и динамично) прорисованную в приведенном четверостишии. Данный ракурс включает слово наконец в зону персонажа и тех, не обозначенных в тексте, но заведомо существовавших субъектов, которые наблюдали за развитием событий внутри ситуации и к которым принадлежит автор в модификации друга Онегина.