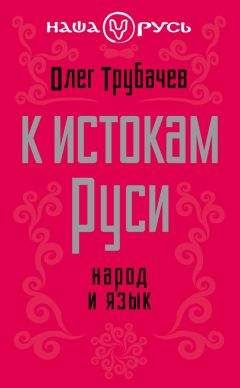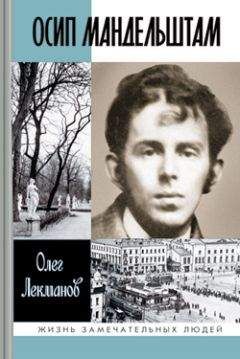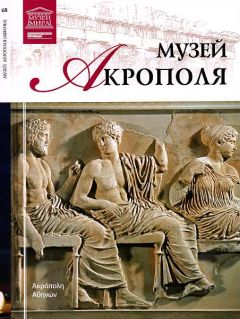Николай Арсеньев - О Достоевском: Четыре очерка
Достоевский увидел эту конечную пропасть с несравненной яркостью и чувствовал жажду преодоления ее. но он увидел и заполнение пропасти.
Никто и ничто не может ее заполнить, преодолеть и отменить ее. кроме безмерного божественного сострадания. Ибо есть Прорыв Оттуда. Иногда это неожиданно раскрывается нам у самого края “пропасти» (см. очерк «Влас» в «Дневнике Писателя»). Этот Прорыв есть самоотдание Вошедшего в наши страдания, страждущего вместе с нами, взявшего на Себя глубину страдания нашего, милосердного и прошающего нас Бога. Новозаветное откровение Бога, открывшееся до глубины и безмерности снисхождения «в лице Иисуса Христа» (II Кор. 4. 6) — вот ответ, полученный и Достоевским.
3Внутренняя встреча, внутрений контакт с Божественным (то, что называют «мистическим опытом»). всё это корень и основа подлинной веры. Это так ясно из истории новозаветной проповеди. Первые ее носители говорили «о том, что мы видели и слышали и осязали руками своими», и это было : «Слово Жизни». «Ибо Жизнь явилась нам, и мы видели и свидетельствуем и возвещаем вам ту Вечную Жизнь, что была у Отца и теперь явилась нам» (1–ое Послание Иоанна, 1, 1–2). Здесь, в этих словах описан и представлен самый корень христианского благовестил : они видели… Вечную Жизнь. Вот это ощущение Превозмогающего Присутствия характерно для христианства, характерно вообще для мистического опыта. Весь христианский опыт, вся христианская проповедь, всё христианство построены на нем. Они еще не знают ясно, но уже чувствуют Присутствие Божественного, — неясно, но почти с самого начала. Они бросают всё — и сети и лодку( а сыны Зеведеевы — и отца своего, Зеведея, с работниками) и идут за Ним. Петр, пораженный чудом неимоверного улова, восклицает в лодке, «припавши к коленям Иисусовым» : «Господи, выйди от меня : я — грешный человек». «Ибо страх (thambos) обуял его и всех бывших с ним» (Лук., 5, 8–9). Сотник восклицает : «Господи, я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи слово, и исцелится отрок мой» (Матф. 3,8). Мытарь Закхей принимает Его в дом свой со словами : «Господи, вот половину имения своего я отдам нищим, а если я кого либо обидел, возвращу вчетверо» (Лук. 19, 8). Это — внутренний переворот. Грешная жена обливает слезами Его ноги и обтирает своими волосами и целует Его ноги и мажет их драгоценным миром (Лук. 7. 37–38). Два ученика, к которым Он присоединился по дороге в Эммаус, сначала не узнавали Его, а узнали Его за трапезой в преломлении хлеба. «И открылись глаза их, и они увидели Его, и Он стал невидим для них. И они говорили друг другу : «Не горело ли сердце наше, когда Он объяснял нам Писание по дороге?» (Луки 24. 31–32). Исцеленный слепорожденный говорит Ему : «Верую. Господи», и поклонился Ему (Иоан., 9, 35–36).
У апостола Павла вся его внутренняя жизнь основана на этом, всю жизнь его пронизаюшем (после его обращения) опыте внутренней духовной «захваченности». «покоренности» его Владыкой и Господом: «Как и я захвачен, покорен (katelemphthen) Христом Иисусом» (Филип.. 3. 12). «Любовь Христова объемлет (т. е. охватывает со всех сторон — synechei) нас» — пишет он во Втором Послании к Коринфянам, в поразительной 5–ой главе (5,14); «Для меня жизнь — Христос, и сама смерть — приобретение» (Филип. 1, 21). «Я решил ничего не знать, кроме Иисуса Христа, и при том Распятого» (1 Кор. 2, 2).
Вот этим чувством внутренней основной покоренности Христом жил и мятущийся, страстный, стремительный, долго искавший себе центр и внутреннюю базу успокоения Достоевский.
Это мистическое чувство захваченности непосредственной близостью Божественного «в лице Иисуса Христа» (срв. II Кор., 4, 6) окрашивает ряд мест в произведениях Достоевского. Так, в поразительном сне Версилова в «Подростке», в котором Достоевский высказал свои самые задушевные мысли, изображается будущее человечества. Побеждает безбожие. И под конец, мирным путем. Борьба религиозная, духовная, идеологическая прошла; страсти улеглись. Всё мирно. Но… человечество осиротело.
«Я представляю себе, мой милый, — начал он с задумчивой улыбкой, — что бой уже кончился и борьба улеглась. После проклятий, комьев грязи и свистков, настало затишье, и люди остались одни, как желали: великая прежняя идея оставила их: великий источник сил, до сих пор питавший и гревший их. отходил, как то величавое зовущее солнце в картине Клода Лоррена, но это был уже как бы последний день человечестза. И вдруг люди поняли, что они остались совсем одни, и разом почувствовали великое сиротство. Милый мой мальчик, я никогда не мог вообразить себе людей неблагодарными и оглупевшими. Осиротевшие люди тотчас же стали прижиматься друг к другу теснее и любовнее; они схватились бы за руки, понимая, что теперь лишь они составляют всё друг для друга. Исчезла бы великая идея бессмертия, и приходилось бы заменить ее: и весь великий избыток любви к Тому, который и был Бессмертие, обратился бы у всех на природу, на мир. на людей, на всякую былинку. Они возлюбили бы землю и жизнь неудержимо и в той мере, в какой постепенно сознавали бы свою преходимость и конечность, и уже особенною, уже не прежнею любовью… Они просыпались бы и спешили бы целовать друг друга, торопясь любить, сознавая, что дни коротки, что это — всё, что у них остается… «Пусть — завтра последний день мой», думал бы каждый, смотря на заходящее солнце: «но всё равно. я умру, но останутся все они. а после них дети их», — и эта мысль, что они останутся, всё так же любя и трепеща друг за друга, заменила бы мысль о загробной встрече. О, они торопились бы любить, чтоб затушить великую грусть в своих сердцах. Они были бы горды и смелы за себя, но сделались бы робкими друг за друга: каждый трепетал бы за жязнь и за счастье каждого. Они стали бы нежны друг к другу и не стыдились бы того, как теперь, и ласкали бы друг друга, как дети. Встречаясь, смотрели бы друг на друга глубоким и осмысленным взглядом, и во взглядах их была бы любовь и грусть…» [7])
И вот на фоне этой оставленности, этой осиротелости происходит вдруг неожиданная встреча.
«… Замечательно, что я всегда кончал картинку мою видением, как у Гейне, «Христа на Балтийском [8]) море». Я не мог обойтись без Него, не мог не вообразить Его, наконец, посреди осиротевших людей. Он приходил к ним, простирал к ним руки и говорил : «Как могли вы забыть Его?» И тут как бы пелена упадала со всех глаз и раздавался великий восторженный гимн нового и последнего воскресения» [9]).
И таким же является образ милующего Христа, целующего Великого Инквизитора — и тем самым выражающего Свое прощение ему — и потрясающего его закостенелую на своих позициях, гордую, потерявшую веру (и жаждущую любви!) душу. Это — последний аргумент в длинном диалоге «Про и Контра» между верой и неверием: мистическая встреча. Бог Сам свидетельствует о Себе душе: Своим присутствием, «Прикосновением» духовным к ней, нежданным прорывом — после мук сомнения, неверия и оставленности. Это Алеша пережил у гроба старца Зосимы в чутком сне — видении, который явился ответом на его душевную муку и сомнения. Это — брак в Кане Галилейской. И он слышит голос старца : «Видишь ли Солнце наше, видишь ли Его?… Не бойся Его. Страшен величием перед нами, ужасен в свете Своем, но милостив бесконечно».
Эта глава, может быть, — верх творчества Достоевского и по существу автобиографична. Мы знаем, что одна из центральных тем его, которая подробно развита, может быть, только в образах Раскольникова и Зосимы (и в очерке «Влас»), но к которой часто направлена его мысль : обращение падшего грешника — через встречу с Божественным. Такая встреча целого народа — русского народа, исцеленного от бесов, завладевших его душою, предносится умирающему Степану Трофимовичу. Он просит прочитать ему это место из Евангелия Луки, заканчивающееся словами : «И вышли видеть происшедшее и, пришедши к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисусовых, одетого и в здравом смысле, и ужаснулись…».
«Друг мой, — продолжал Степан Трофимович в большом волнении — savezvous, это чудесное и… необыкновенное место было мне всю жизнь камнем преткновения… Теперь же мне пришла одна мысль : видите, это точь–в–точь как наша Россия. Эти бесы, выходящие из больного и входящие в свиней — это все язвы, все миазмы, вся нечистота, все бесы и все бесенята, накопившиеся в великом и милом нашем больном, в нашей России, за века, за века!… Но великая мысль и великая воля осенит ее свыше, как того безумного бесноватого, и выйдут все эти бесы, вся нечистота, вся эта мерзость, накопившаяся на поверхности… Но больной исцелится и «сядет у ног Иисусовых» …и будут все глядеть с изумлением» [10]).
Встреча с Господом своим и Владыкой и предание себя Ему и служение Ему — вот внутренний стержень духовной жизни Достоевского после возвращения из каторги, и с годами это возрастает всё больше и больше, становится всё сознательнее, как некая радостная, всё побеждающая и жизнь просветляющая Реальность, высшее сокровище его души. Недаром в набросках к своим «Бесам» он пишет такие слова: «Дело в настоятельном вопросе: можно ли веровать, будучи цивилизованным, т. е. европейцем, т. е. веровать безусловно в божественность Сына Божия Иисуса Христа (ибо вся вера только в этом и состоит)». И далее : «Источник жизни и спасения от отчаяния всех люден и условие для бытия всего мира заключается в трех словах: «Слово плоть бысть» и вере в эти слова» [11]). Xристоцентричность или Христоустремленность миросозерцания и религиозного опыта Достоевского, даже в периоды тяжелых сомнений или моральной ослабленности несомненны. Недаром почта тотчас после выхода из «Мертвого Дома» он пишет в своем знаменитом письме к жене декабриста Фонвизина: