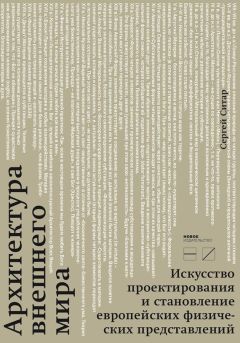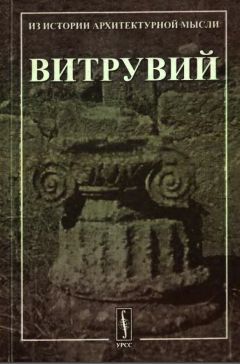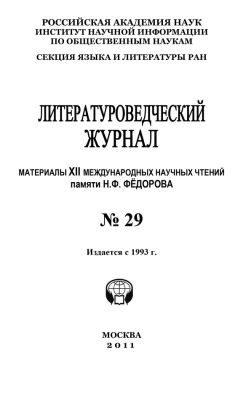Александр Николюкин - Литературоведческий журнал № 28: Материалы III Международного симпозиума «Русская словесность в мировом культурном контексте»
С этой точки зрения и «формальный метод» в литературоведении – при всех его несомненных научных достижениях – являлся лишь наиболее радикальным, крайне левым крылом того же марксистского материалистического подхода. Далеко не случайно его определяющее влияние именно в первое – столь же радикальное – десятилетие советской власти, как и последующее постепенное «затухание» этого радикализма в недрах откристаллизовавшейся к тому времени советской гуманитарной науки.
«Борьба» социологического и формалистического крыла в советском литературоведении – это «спор между своими». Не случайно работы «чужих» М.М. Бахтина и А.Ф. Лосева, в различной степени, но наследовавших христианские религиозные традиции в гуманитарной сфере, не имели практически никакого значительного резонанса – помимо карательных оргвыводов.
Таким образом, религиозно-философское направление, чрезвычайно ярко себя проявившее в конце ХIX – начале XX в., оказалось практически невостребованным в отечественной гуманитарной мысли – вплоть до конца 80-х годов. В результате некоторые важнейшие проблемы, поставленные русскими писателями, либо сознательно затушевывались, либо сознательно же мистифицировались. В том числе проблема, вынесенная в заглавие предлагаемой работы.
Разграничение вселенского, т.е. церковнославянского, восходящего к эллинскому, и родного, т.е. собственно русского, возможно только теоретически, в абстракции, только в кабинетах. В жизни это непременно ведет к выпадению из истории. Надо заметить, провинциализм русского языка культивировался в советское время достаточно недолго. Проекты с латинизацией также были отброшены. Очень скоро русский язык вновь обрел универсальность, не вселенскость, а универсальность, став средством межнационального общения (но именно – средством). Как писал наш советский «земшаровец» Михаил Кульчицкий в 40-х годах: «Только советская нация / будет / и только советской расы люди». Советской расы люди разговаривают на особом языке – советском: «Кто понять не может, / будь глухой – / на советскомязыке / команду – в бой!». В итоге этой новой универсализации церковнославянская ипостась русского языка не просто истончилась, она зачастую обретала чисто негативные коннотации. Например, слово преподобный в русской языковой картине мира находится в ореоле святости; в переводе же на советский язык это же слово означает глупого, недалекого, странного человека – достаточно хотя бы вспомнить рассказы Шукшина. И именно этот советский жаргон русского языка внедрялся в качестве литературной универсальной нормы.
В итоге этой жаргонизации нашего языка постепенно ослабевала, так сказать, сама его иммунная система и нынешнее его состояние, от невероятного засорения интернациональной лексикой до «языка падонкофф» – является лишь следствием того повреждения двуипостасности, той утраты внутренней формы, о которой предупреждал Вяч. Иванов. Таким образом, жаргонизация русского языка – это вовсе не результат его «естественного» развития, как это пытались представить в нашей филологии, это порча самой его глубинной природы. Стоит только вслушаться в глаголы, которым Иванов передает этот процесс порчи: «Язык наш… кощунственно оскверняют богомерзким бесивом, неимоверными, бессмысленными, безликими словообразованиями… хотят его обеднить… его забывают и растеривают… оскопляют и укрощают… ломают… уродуют поступь… подстригают ему крылья».
Не случайно молодой Дмитрий Лихачёв, когда он еще не был кумиром советской образованщины, а был оскорбленным в своих чувствах русским патриотом, в докладе 1928 г. «О старой орфографии», за который и получил тюремное заключение, сделал вывод о ярко выраженном антиправославном подтексте реформы. Новая орфография, как старался показать Лихачёв, «посягнула на самое православное в алфавите…». При этом устроители ломки русского языка, «они (имя которым – легион) хотят предать забвению ту ненавистную связь, которая существовала когда-то между Византией и Русью, Россией… они пытались… отторгнуть Россию от небесной благодати»4.
Однако русская культура может себе в заслугу поставить и сопротивление насилию. Одним из ярких свидетельств борьбы является случай Мандельштама.
В статье «О природе слова» в период послереволюционного декларирования разрыва с христианским прошлым России (когда какой-нибудь Осип Бескин мог не без оснований поучать Сергея Есенина и других «русофильствующих», что «Октябрьская революция – не русская революция»5) Мандельштам поставил вопрос ни больше ни меньше о единстве русской литературы, а также о самом принципе ее непрерывности. Именно эллинизм, по Мандельштаму, и является этим принципом.
Как известно, эта статья, помимо харьковского издания 1922 г., вышла также на следующий год в Берлине (в Литературном приложении к «Накануне»), где имела уже иное название, которое вполне передает ее концептуальное содержание: «О внутреннем эллинизме в русской литературе».
Нелишне напомнить, что для Мандельштама русский язык – «язык эллинистический». «Живые силы эллинской культуры, согласно этой логике, устремились в лоно русской речи, сообщив ей самобытную тайну эллинистического мировоззрения, тайну свободного воплощения, и поэтому русский язык стал именно звучащей и говорящей плотью»6.
В отличие от построений Вяч. Иванова, нигде, ни в одном предложении этой статьи, речь не идет о религиозной составляющей этой «самобытной тайны» русского языка. Может даже показаться, что в известных строчках о «домашнем эллинизме» русского языка (где речь идет о печном горшке, ухвате, крынке с молоком, посуде, тепле очага автор сознательно уклоняется от всякой сублимации, от любой символизации – в пользу вещности вещей). Тем более что с неприязнью говорится о «профессиональном символизме» и «лжесимволизме». Однако же обратим внимание на то, что предметы, окружающие человека, втянуты в его, человека, – «священный круг». Ссылаясь на Бергсона, Мандельштам говорит о «веере явлений, освобожденных от временной зависимости». Он настаивает не на «эллинизации» русского языка, а на его «внутреннем эллинизме, адекватном духу русского языка». Но что тогда понимается под духом языка? И почему этот «дух» языка эллинистичен по своей природе?
Что означают, далее, суждения Мандельштама о бытийственности русского языка, которую «можно отождествлять» с его «эллинистической природой»? Что означает предложение: «Слово в эллинистическом понимании есть плоть деятельная, разрешающаяся в событие»?
По-видимому, это слово, которое «есть плоть» и в то же время «событие», не что иное, как Бог, в котором «слово стало плотью». Речь идет о Христе. Именно этот вектор истолкования достаточно темных слов Мандельштама и задан эпиграфом к этой статье из стихотворения Гумилёва «Слово», в котором противопоставлены мертвые «слова» (во множественном числе) и «Слово»:
Но забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных хлопот
И в Евангельи от Иоанна
Сказано, что Слово – это Бог.
Именно Бог, Христос, – и есть то самое Слово, которое стало «плотью». В черновом варианте стихотворения Гумилёва, который вполне мог быть известен Мандельштаму (1919), «плоть» этого Слова особенно ясно выражена:
Но живем под голубым окном
Оттого-то и хотим мы Бога
Сделать нашим хлебом и вином.
Однако и те строки окончательного варианта стихотворения Гумилёва, которые звучат в эпиграфе к статье Мандельштама, сами по себе знаменательны. Слово как греческий Логос, конечно же, вполне «освобождено от временной зависимости» и образует вокруг себя тот самый, говоря словами Мандельштама, «священный круг», который можно опознать как христоцентризм.
Логос-слово в его новозаветном греческом (т.е. эллинском) смысле, разумеется, не может не нести в себе как раз ту самую «бытийственность», о которой и пишет Мандельштам. «Русский номинализм», о котором говорится в статье, как «представление о реальности слова», зиждется именно на Воплощении в Слове Бога, то есть Христа.
Но из этого вытекает и другое. По-видимому, «слово», о котором говорят и Гумилёв, и Мандельштам, и которое может быть в данном случае передано – согласно «обратному переводу» – именно и только как логос – и составляет основу той самой филологии, о которой с такой настойчивостью говорится у Мандельштама.
В таком случае, скажем, «филологическая природа души» Розанова, с любовью отмечаемая Мандельштамом, и в целом «филологическая культура», недаром противопоставляются им «литературе». Здесь еще нет позднейшего – из «Четвертой прозы» – выпада против «литературы», фраз о «литературном обрезании» и инвектив, направленных на современное ему «писательство», как особой «расы», «везде и всюду близкой власти, которая отводит ей место в желтых кварталах, как проституткам». Эта самая «литература», по известным словам Мандельштама, «везде и всюду выполняет одно назначение: помогает начальникам держать в повиновении солдат и помогает судьям чинить расправу над обреченными»7. Почти исчерпывающая характеристика «литературы» наших «совписов», не постеснявшихся затем, когда это стало выгодно, создать миф о своей мнимой «оппозиционности» советской власти.