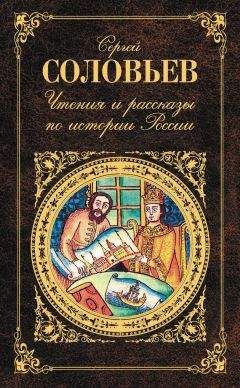Поль де Ман - Аллегории чтения. Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста
Превосходным примером этого становится образ радужной струи фонтана. Все ориентирует троп по направлению к обольщению метафоры: чувственная привлекательность, контекст, аффективные коннотации — все направлено на достижение этой цели. Однако, если последовать предписанию самого Пруста и подчинить чтение полярности истины и заблуждения (такое действие можно вытеснить, но не предотвратить), то высказывания или стратегии, стремящиеся остаться незамеченными, станут очевидными и все, что, казалось бы, исполнила фигура, потеряет свою силу. Тогда пестрота фонтана разочарует куца сильнее, оказавшись колебанием меж истиной и заблуждением, предохраняющим два прочтения от слияния. Дизъюнкция равно обязательных эстетически ответственного и риторически знающего чтения отменяет сконструированные текстом псевдосинтезы внутри и вовне, времени и пространства, содержащего и содержимого, части и целого, движения и покоя, самости и понимания, писателя и читателя, метафоры и метонимии. Эта дизъюнкция функционирует как оксюморон, но, сигнализируя не столько о репрезентационной, сколько о логической несопоставимости, на самом-то деле оказывается апорией. Она обозначает неизбежное появление, по крайней мере, двух взаимно исключающих прочтений и утверждает невозможность истинного понимания, как на фигуративном, так и на тематическом уровне.
Остается нерешенным вопрос о том, постигается ли, благодаря допущению, что текст сам деконструирует свои метафоры, действительное движение романа и приближает ли оно к негативной эпистемологии, помогающей отыскать его спрятанное значение. А не превращается ли этот роман в аллегорическое повествование о своей собственной деконструкции? Некоторые из наиболее восприимчивых современных истолкователей, похоже, думают именно так, когда, как Жиль Делез, утверждают «мощное единство» «Recherche», невзирая на его внутреннюю фрагментированность, или когда, как Женетт, подчеркивают «прочность текста», невзирая на рискованный кругооборот метафоры и метонимии[82].
Теперь под угрозой оказывается не что иное, как возможность включения противоположностей чтения в способное содержать их повествование. Такое повествование имело бы универсальное значение аллегории чтения. Сообщая о противоречивом взаимоналожении истины и заблуждения в процессе понимания, аллегория уже не подвергалась бы воздействию разрушительной силы такого усложнения. Постольку, поскольку она не является откровенно ложной, аллегория игры истины и ложности обосновывала бы устойчивость текста.
Следовало бы распутать сложное переплетение истины и лжи в «А la recherche du temps perdu», чтобы решить, соответствует это произведение изложенной здесь модели или нет. Но отрывок о чтении дает первое указание, как бы мог протекать такого рода анализ. Ему предшествует эпизод (р. 80 1.18 — р. 821.24; 71-73), как бы вследствие простого совпадения обращающийся к вопросу об аллегории и способный предупредить о трудностях, с которыми столкнется каждая попытка произвести исчерпывающее аллегорическое чтение этого романа. Отрывок содержит размышления Марселя о прозвище «Благость Джотто», которым Сван окрестил судомойку, так жестоко преследуемую кухаркой Франсуазой.
Рабыня рабыни, патетическая эмблема порабощения, судомойка сперва описана как устойчивый элемент в сердцевине изменений, который вместе с Гете можно было бы назвать Dauer im Wechsel. О ней говорится, что она быламшеким постоянным учреждением, на которое, несмотря на смену недолговечных форм, в каковые оно облекалось... неизменный круг обязанностей налагал печать преемственности и сходства» (р. 8011.25-28; 71). Сван, наделенный особым даром открывать сходства,— олицетворенная метафора — подметил почти эмблематическое качество этой самой судомойки. Она носила «таинственную корзину» своей беременности так, что благодаря сходству своему с плащами на аллегорических фресках, нарисованных Джотто в капелле Арена в Падуе, обнаруживала свое универсальное содержание. Все ее муки и все унижения сменявших друг друга судомоек концентрируются в этой особой черте ее облика, подымаясь тем самым до уровня эмблемы. Когда аллегория воспринимается таким образом, по структуре она ничем не отличается от метафоры, наиболее общим вариантом которой она на самом деле и является. Вот так и метафора подтверждает единство искусства как «неизменного учреждения», превосходящего единичность своих особенных воплощений. Удивительным может показаться разве лишь то, что Пруст избрал в качестве замысла и воплощения фигуры рабство. Еще более удивительно то, что проницательность Свана позволила ему выделить Благость, Добродетель, отношение которой к рабству не ограничивается простым сходством. Обобщая себя в своей собственной аллегории, метафора кажется заместила свое собственное значение.
Марсель, обладающий более литературным (то есть риторически менее наивным) умом, чем Сван, замечает, что судомойка и Благость Джотто похожи друг на друга не физической формой, а чем-то иным. Их сходство также связано с чтением и пониманием, и любопытно, что в этом отношении оно негативно. Общее для судомойки и Благости свойство — это непонимание: обе они выделяются чертами, которые проявляют, «по-видимому не постигая... [их] смысла» (72). Похоже, что им обеим присуща одна и та же неспособность к чтению.
Отрывок с превеликой тщательностью описывает эту общую для них неспособность читать. Аллегорический образ или иконический знак обладает, с одной стороны, репрезентационной ценностью и силой: Благость представляет собой форму, душевные свойства которой коннотативно передают определенное значение. Более того, она делает жесты или (в случае уже не пиктограммы, но словесного иконического знака) рассказывает истории, особенно выделяющиеся своим стремлением содержать значение. Фигуры должны быть наделены семантической напряженностью, дарующей им особенно эффективную функцию репрезентации. Аллегорический иконический знак должен привлекать внимание; его семантическую значимость следует драматизировать. Марсель настаивает на том, что судомойка и фрески Джотто напоминают друг друга общим для них призывом сосредоточить внимание на аллегорической детали: «Внимание Зависти — так же, как и наше,— всецело сосредоточено на положении губ...», подобно тому, как обстояло дело «с нашей бедной судомойкой: разве наше внимание не приковывалось к ее животу из-за тяжести, которая вздувала его?» (72, 73). В метафоре подстановка фигурального значения вместо буквального порождает путем синтеза собственное значение, которое может оставаться скрытым, пока оно не будет конституировано самой фигурой. Но в аллегории, как здесь описано, кажется, будто автор потерял уверенность в эффективности силы подстановок, произведенной сходствами: он устанавливает собственное значение прямо посредством внутритекстового кода, или традиции, используя литературный знак, который не имеет никакого сходства с этим значением и который передает, в свою очередь, свое собственное значение, не совпадающее с буквальным значением аллегории. Выражение лица «могучей и мужеподобной» (72) матроны, нарисованной Джотто, не несет в себе никакого дополнительного значения благости, и даже когда, как в случае с Завистью, можно проследить сходство идеи и выражения лица, подчеркивается иконическая деталь, отвлекающая наше внимание и скрывающая возможное сходство от наших глаз.
Отношение между собственным и буквальным значениями аллегории, которые можно было бы назвать соответственно «аллегоремой» и «аллегорезисом» (подобно тому как различают «ноэму» и «ноэзис»),— это не просто отношение несовпадения. Семантический диссонанс идет гораздо дальше. Внимание зрителя Зависти сконцентрировано на живописных деталях образа, и ему, как говорит Марсель, «уже не до завистливых мыслей» (72). Отсюда дидактическая эффективность аллегории, поскольку она заставляет забыть пороки, которые она призвана представить,— и это отчасти схоже с тем, как Руссо стремится оправдать существование театра тем, что он отвлекает сладострастников от дурных привычек[83]. На самом деле оказывается, что Зависть привлекает внимание к чему-то, куда более опасному, чем порок, а именно—к смерти. Но со структуральной и риторической точек зрения важно лишь то, что аллегорическое представление приводит к значению, которое расходится с первоначальным значением вплоть до того, что исключает его проявление.
Когда речь заходит об аллегорической фигурации Благости, все становится еще своеобразнее, особенно если принять во внимание происхождение этого отрывка. Пруст начинает не с непосредственого обращения к фрескам Джотто, но с комментария Рескина, посвященного Порокам и Добродетелям Джотто в Падуе[84]. Комментарий интересен по многим причинам, но особенно поразителен он в данном случае потому, что имеет прямое отношение к ошибке чтения и истолкования. Рескин описывает Благость, поднимающую в левой руке объект, похожий на сердце; сперва он предполагает, что вся сцена представляет Бога, вручающего ей свое благостное сердце, но в позднейшем замечании поправляется: «Нет никакого сомнения в том, что я неверно истолковал это действие: это она вручает свое сердце Богу, жертвуя собой человечеству»[85]. Рескин таюке обсуждает амбивалентную риторику художника, которая, по его словам, «почти буквальна в [своем] значении и в то же время фигуральна». Описывая тот же самый жест, Марсель следует утонченному чтению Рескина, но замещает значение, добавляя сравнение, которое на первый взгляд кажется довольно неуместным: «Она вручает Богу свое пылающее сердце, точнее сказать — она его передает[86] ему, как протягивает кухарка пробочник из окошка подвального помещения тому, кто стоит у окна нижнего этажа» (р. 81 11.22-25; 72). Сравнение, по-видимому, избрано просто для того, чтобы подчеркнуть бытовой характер жеста, но одной из его функций становится подготовка возвращения в текст «кухарки», т. е. Франсуазы. Судомойка напоминает Благость Джотто, но оказывается, что жест этой последней вынуждает вспомнить и о Франсуазе. Первое сходство вовсе не невозможно: страдания несчастной женщины представлены достаточно ярко, чтобы пробудить чувство жалости, которое легко спутать с Благостью. Но последнее сходство, с Франсуазой, понять труднее: если образ, будучи представлением, дополнительно означает Франсуазу, это серьезный промах, ибо ничто не может быть менее благостным, чем Франсуаза, особенно в том, что касается ее отношения к судомойке. Прочтение соседнего эпизода (р. 120-124; 105-108), детально описывающего все тонкости методов насилия, применяемых Франсуазой, делает вполне ясным то, что буквальный смысл этой аллегории относится к ее собственному смыслу самым неблагостным образом. Раздел, кульминацией которого становится трагикомическая сцена, в которой мы видим, как заливается горючими слезами Франсуаза, прочитав в книге описание тех самых симптомов, которые вызвали самое дикое насилие с ее стороны, когда она столкнулась с ними воочию, наблюдая их у своей рабы, интересен для риторики потому, что единичный иконический знак порождает два значения, репрезентационное и буквальное, иное, аллегорическое, и «собственное», и потому, что эти два значения борются друг с другом со слепой силой глупости. При соучастии писателя буквальное значение стирает аллегорическое значение; и как Марсель вовсе не склонен отказываться от услуг Франсуазы, так и писатель не намерен действовать, отказавшись от сил тематизации, присущих буквальному представлению, и, более того, не способен поступить так, даже если бы попытался.