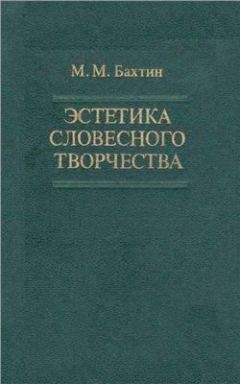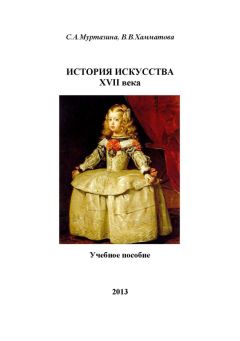Коллектив авторов - Эстетика и теория искусства XX века. Хрестоматия
Алхимия слова9 – это выражение, которое сплошь и рядом повторяют наугад, сегодня должно быть понято буквально. Если даже глава «Пора в аду», в которой оно появилось, возможно, и не в полной мере выражает их мощь, нам тем не менее кажется верным, что они очень точно определяют сердцевину той сложной деятельности, которой сегодня занят один лишь сюрреализм. С нашей стороны было бы литературным ребячеством притворяться, будто мы не обязаны во многом этому знаменитому тексту. И разве восхитительный XIV век был менее велик в плане человеческой надежды (равно как, конечно, и в плане безнадежности) оттого, что столь гениальный автор, как Фламель10, обрел таинственные силы благодаря уже существовавшей прежде рукописи Авраама-еврея11, или же оттого, что тайны Гермеса не были полностью утрачены? Я так не думаю; я полагаю, что изыскания Фламеля, которые, как мне представляется, являются их непосредственным следствием, ничуть не умаляются оттого, что обрели такую помощь и содействие. То же самое происходит и сейчас, в наше время, когда некоторые люди благодаря Рембо, Лотреамону и другим как будто услышали некий голос, сказавший им, как некогда ангел Фламелю: «Внимательно поглядите на эту книгу, вы ничего в ней не поймете, ни вы, ни многие другие, но в один прекрасный день вы увидите в ней то, что не сумел увидеть никто» [51] . И они более не смогут оторваться от видения. Я хочу, чтобы стало ясно: сюрреалистические изыскания имеют поразительное сходство целей с изысканиями алхимическими, философский камень – это не что иное, как средство, которое должно было позволить человеческому воображению одержать блистательную победу над вещами, и сейчас мы снова, после целых столетий приручения разума и безумного отказа от таких попыток, должны попробовать решительно освободить воображение благодаря «долгому, бесконечному, безрассудному расстройству всех чувств» и всего остального. Возможно, нам стоит начать с того, чтобы украсить стены наших жилищ изображениями, которые сперва просто покажутся нам прекрасными, подобно тому как это случилось с Фламелем, перед тем как он нашел свой первый элемент, свою « материю » , свою « печь » . Он любил показывать «короля с огромным ножом, который заставлял солдат убивать в своем присутствии великое множество маленьких детей. Их матери горько плакали у ног безжалостных воинов, в то время как кровь упомянутых детей, будучи предварительно собрана другими солдатами, выливалась в огромный сосуд, где купались небесные Солнце и Луна». А затем ему явился «юноша с крылышками на ногах, держащий в руке блюдце, с которого свешивалась зелень, покрывавшая голову. За ним же бежал и летел на распростертых крыльях огромный старик, на голове у которого были закреплены часы».
Разве это не напоминает сюрреалистическую картину? И кто знает, может быть, дальше благодаря новым свидетельствам мы столкнемся с необходимостью употреблять совсем новые вещи или же такие, что давно вышли из употребления? Я вовсе не думаю, что мы вдруг начнем глотать сердца лягушек или же с волнением прислушиваться – почти как к биению собственного сердца – к кипению воды в реторте. Или, скорее, я не могу сказать заранее, я просто жду. Я знаю только, что человек не достиг еще предела своих испытаний, и я хотел бы лишь приветствовать яростную страсть ( furor ), в которой Агриппа12 (напрасно или осмысленно) пытался различить четыре разновидности13. В сюрреализме мы имеем дело исключительно с furor. Важно понимать, что речь идет не о простой перестановке слов или произвольном перераспределении зрительных образов, но о воссоздании состояния души, которое сможет соперничать по своей напряженности с истинным безумием; нынешние авторы, которых я цитирую, достаточно все это разъяснили. Мы ничего не можем поделать, если Рембо посчитал нужным извиняться за то, что он называл своими «софизмами»; если, по его выражению, все это потом прошло; такое заявление не представляет для нас ни малейшего интереса. Мы усматриваем в этом всего лишь обычную мелкую трусость, помешавшую ему догадаться о будущей судьбе, ожидавшей некоторые из его идей. «Сегодня я знаю, как приветствовать красоту» – со стороны Рембо просто непростительно заставлять нас верить в то, что ему удалось вырваться на свободу вторично, в то время как он попросту возвращался в тюрьму. «Алхимия слова» – можно лишь пожалеть о том, что «слово» берется здесь в несколько ограниченном смысле; впрочем, сам Рембо, кажется, признавал, что «поэтическое старье» занимает слишком много места в этой алхимии. Кроме того, слово, как, например, считали каббалисты, – это то, по образу чего сотворена человеческая душа; известно, что его возносили все выше и выше, пока не признали первообразом причины причин; и в качестве такового оно пребывает во всем, чего мы боимся, во всем, о чем мы пишем, – равно как и во всем, что мы любим.
Я утверждал, что сюрреализм все еще пребывает в подготовительном периоде, а теперь еще спешу добавить, что, вполне возможно, период этот продлится, пока я сам жив (утверждение «пока я сам жив» – весьма слабое указание на то, что я еще не в состоянии допустить, что некий Поль Люка встретил Фламеля в Бруссе в начале XVII века, что тот же самый Фламель, сопровождаемый женой и сыном, был замечен в Опера в 1761 году и что он ненадолго появился в Париже в мае 1819 года – в то время, когда, как говорят, он снимал лавочку в Париже, на рю де Клери, 22). По сути дела, подготовительный период по большей части относится к сфере «художественного». Тем не менее я предвижу, что эта подготовка подходит к концу, и потрясающие идеи, рожденные сюрреализмом, явятся наконец воочию под грохот колоссального взрыва, а затем свободно помчатся вперед. Всего можно ждать от нынешнего определения волевых усилий некоторых людей: придя после нас, они будут действовать еще более беспощадно, чем мы. Во всяком случае, сами мы полагаем, что достаточно способствовали пониманию скандальной глупости всего, что к моменту нашего прихода считало себя мыслящим; мы полагаем, что наконец способствовали – пусть даже мы этим бы и ограничились – тому, чтобы мышление было подчинено наконец мыслимому.
Позволительно задаться вопросом: кого же на самом деле хотел отвадить Рембо, когда он пророчил потерю разума и безумие тем, кто рискнет идти по его стопам. Лотреамон начинает с того, что предупреждает читателя: «если он не приступит к чтению со строгой логикой и активностью духа, хотя бы равной дерзости вызова, смертельные испарения книги (то есть „Песен Мальдорора“) растворят в себе его душу, подобно тому как вода растворяет кусок сахара ». Однако он тут же добавляет, что « только некоторые сумеют вкусить этот горький плод, не подвергаясь опасности ». Проблема проклятия, которая пока что удостаивалась разве что иронических или невнятных комментариев, сейчас актуальна, как никогда. Сюрреализм только теряет, когда пытается отвести от себя это проклятие. Здесь важно вновь прибегнуть к «Маранатхе» алхимиков14, которую помещали в начала произведения, чтобы отвадить профанов. Именно это, как мне казалось, жизненно необходимо разъяснить тем из наших друзей, которые, похоже, слишком увлеклись продажей и размещением своих картин. « Мне бы хотелось, – как недавно писал Нуже15, – чтобы те из нас, чье имя начинает что-то значить, стерли его из памяти других ». Не очень точно представляя себе, кого он имеет в виду, я полагаю, во всяком случае, что от тех и других можно по крайней мере требовать, чтобы они перестали столь благодушно себя демонстрировать. Ведь прежде всего следует избегать одобрения публики. Если хочешь избежать путаницы, нужно непременно препятствовать публике входить внутрь. Я бы добавил, что ее нужно держать у дверей в состоянии полной растерянности, благодаря целой системе вызовов и провокаций.
Я ТРЕБУЮ ОТ СЮРРЕАЛИЗМА ИСТИННОГО И ГЛУБОКОГО ЗАТМЕНИЯ ОККУЛЬТИЗМА [52] .
Сюрреализм менее чем когда-либо расположен обходиться без этой внутренней цельности; он не довольствуется тем, что оставляют ему те или иные индивиды в промежутке между двумя небольшими предательствами, которые они пытаются скрыть под тем серьезным предлогом, что, де, надо же ведь и жить как-то. Нам приходится иметь дело с этой милостыней так называемых «талантов». Нам кажется, что мы требуем либо согласия, либо полного отказа, а вовсе не словесных упражнений или сохранения старых надежд. Речь идет о том, готов ли человек – да или нет! – рискнуть всем ради единственной радости – заметить вдали, в глубине того ущелья, куда мы предлагаем сбросить все наши жалкие жизненные удобства, все, что еще осталось от нашего доброго имени и наших сомнений, существующих вперемешку с приятными стекляшками «чувствительности», с радикальной идеей бессилия и бессмыслицей наших предполагаемых обязанностей, – увидеть там свет, который перестает угасать.
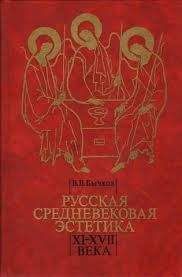
![Пётр Киле - Эстетика Ренессанса [Статьи и эссе]](/uploads/posts/books/199113/199113.jpg)