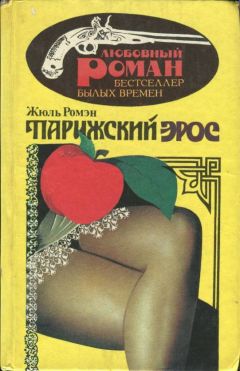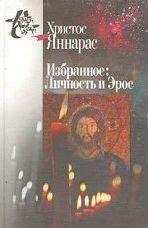Горько-сладкий эрос - Карсон Энн
Акт остановки и перехвата, расщепляющий разум и погружающий его в состояние конфликта, и есть акт, называемый «метафора». Сравним его с тем, что мы увидели в «Менинах». В самой сути акта, именуемого «метафорой», разум тянется к определению, переносит названия «на предметы безымянные», по Аристотелю (Rh., III, 2, 1405a34). В свою очередь хитрость, примененная Веласкесом, побуждает нас дать имя объекту, на который смотрят глаза всех, кто изображен на картине. На мгновение нам кажется, что все взоры устремлены на нас. А потом мы видим отражения в зеркале. Наше побуждение дать имена этим лицам спотыкается о различие между двумя сущностями (мы сами и король с королевой), притязающими на эти имена. Остановка происходит рывком, из-за которого зрение искажается, наше сознание расщепляется надвое и этот разрыв непреодолим, как бы часто мы ни возвращались к картине: всякий раз, когда мы смотрим на нее, восторженный миг самоузнавания пресекается смутным отражением монарших особ в зеркале. Аристотель улавливает этот момент перехвата, когда разум будто бы говорит себе: «Как это верно! А я ошибался». Он зовет это «чем-то парадоксальным» (ti paradoxon), и, по его рассуждению, в этом одна из неотъемлемых прелестей метафоры (Rh., III, 2, 1412a6).
Эрос также содержит нечто парадоксальное в самой сути своей силы, в моменте, когда сладость сменяется горечью. Происходит смещение дистанции, и дальнее, отсутствующее, иное становится близким. «Изваяний прекрасных ненавистно прельщенье»: Менелаю, который бродит по опустевшему дворцу, в слепой зоне между любовью и ненавистью, пустые глазницы статуй отражают Елену (Aesch., Ag., 414–419). «Желает, ненавидит, хочет все ж иметь», – говорит Аристофан о греческом демосе и его любимце Алкивиаде (Ran., 1425). «Люблю опять и не люблю, и без ума, и в разуме», – восклицает Анакреонт (PMG, 412). Нечто парадоксальное останавливает влюбленного. Остановка случается в момент несоответствия реального и возможного, в слепой зоне, когда действительное «мы» исчезает в возможном «мы, которые могли бы быть, если бы были другими, а не такими, как мы есть». Но мы такие, какие есть. Мы – не король и королева Испании; не влюбленные, способные одновременно чувствовать желание и добиваться желаемого; не поэты, которым для того, чтобы донести смысл, не требуется ни метафор, ни символов.
Слово «символ» – греческое symbolon, в античном мире означавшее половинку бабки – косточки надкопытного сустава овцы или козы, которую носили в знак cродства с тем, у кого была вторая половинка. Вместе две половинки образуют одно значение. Метафора – разновидность символа. Как и влюбленный. Так говорит Аристофан в платоновском «Пире»:
ἕκαστος οὖν ἡμῶν ἐστιν ἀνθρώπου σύμβολον, ἅτε τετμημένος ὥσπερ αἱ ψῆτται, ἐξ ἑνὸς δύο· ζητεῖ δὴ ἀεὶ τὸ αὑτοῦ ἕκαστος σύμβολον.
Итак, каждый из нас – это [symbolon] человека, рассеченного на две камбалоподобные части, и поэтому каждый ищет всегда соответствующую ему половину.
Каждый жаждущий, рыщущий влюбленный – половинка такой бабки, поклонник значения, неотделимого от собственного отсутствия. Миг, когда мы понимаем такие вещи, – миг, когда видим себя, какие мы есть, в проекции на экране того, какими мы могли быть, – это всегда момент резкой остановки. Мы любим этот миг – и ненавидим его. Но, если мы хотим поддерживать связь с возможным, нам придется возвращаться в этот миг снова и снова. И смириться с тем, что он снова и снова будет ускользать. Лишь слово бога не имеет начала и конца. Лишь божественное желание может достичь желаемого без отсутствия. Лишь парадоксальный бог желания, исключение из всех правил, навечно наполнен самим отсутствием.
Сапфо свела это понятие воедино и назвала эрос glukupikron [52].
Рождение романа
У Природы нет очертаний; у Воображения – есть.
Воображение – суть желания. И суть метафоры. Оно необходимо для занятия чтением и письмом. В греческой архаической лирике эти три траектории, возможно случайным образом, пересеклись, и воображение придало человеческому желанию новые очертания, прекраснее которых, как думают многие, не было ни прежде, ни впоследствии. Мы видели, какую форму принимают эти очертания. Архаические поэты, писавшие о желании, выкладывали из своих слов треугольники. Или же, если выразиться не столь категорически, представляли ситуацию, в которую вовлечены два фактора (влюбленный и объект любви), как структуру из трех факторов (влюбленный, объект любви и пространство между ними, понимаемое по-разному). Являются ли эти очертания лишь идеей фикс лирического поэта? Нет. Мы рассматривали трагических и комических поэтов, а также эпиграммистов, затрагивавших горькую сладость желания. Мы нашли корни этого понятия в гомеровской сцене с Афродитой. Мы видели, как Платон подошел к проблеме с другой стороны. Нет, это нечто фундаментально присущее эросу.
Лирические поэты изображают эти очертания с неожиданной отчетливостью, и их открытия сохранились в письменном виде. «Чего хочет влюбленный от любви?» – вот вопрос, к которому нас подводит лирическое наследие. Но теперь следует взглянуть на тему с другой стороны, поскольку природа лирического наследия неотделима от факта его письменного переложения, и этот факт окутан тайной. Я имею в виду вот что: греческие лирические поэты представляют собой пограничный случай – они жили в эпоху первого всплеска литературной деятельности, последовавшей за появлением алфавита, и, получая заказы на произведения для устной декламации или публичных представлений, участвовали также и в письменной фиксации этих текстов. Эти поэты исследуют границу устной и письменной литературы, испытывают на себе, что такое акт письма, акт чтения, какой становится при этом поэзия. Не самое легкое положение. Возможно, оттого эти тексты так хороши. Так или иначе, постепенно, по мере распространения грамотности по всей Греции, положение поэтов становилось легче. Стали появляться новые жанры, отвечающие новым требованиям. Давайте посмотрим на самые влиятельные из них, развивавшиеся уже специально для писательского и читательского удовольствия. Давайте же заменим вопрос «Чего хочет влюбленный от любви?» вопросом «Чего хочет читатель от чтения? А чего желает автор?». И ответом будут романы.
«Харитон, писец ритора Финагора» [53], – представляется греческий автор в начале своего романа «Повесть о любви Херея и Каллирои», самом раннем из дошедших до нас примеров жанра, который мы зовем любовным романом. Жанр возник при появлении письменной литературы, процветавшей в греко-римском мире начиная с III века до н. э., когда распространение грамотности и оживленная книготорговля создали широкую аудиторию. Наш термин «любовный роман» не отражает античного названия жанра. Свой труд Харитон назвал erōtica pathēmata, «эротические страдания», – любовные истории, в которых любовь заведомо должна причинять боль. Рассказывались эти истории в прозе и имели целью развлечь читателя.
Четыре древнегреческих романа сохранились полностью, а еще фрагменты и краткие изложения, датирующиеся периодом начиная с I века до н. э. и заканчивая IV веком н. э., плюс несколько романов на латыни. Сюжеты во многом схожи: истории, в которых влюбленные остаются разлученными и страдают до последней страницы. Один издатель дал вот такую краткую характеристику жанра:
Романтическая история любви – это нить, на которую нанизаны сентиментальные и сенсационные эпизоды; главные герои либо влюбляются друг в друга в самом начале, либо играют свадьбу и тут же разлучаются; их раз за разом отдаляют друг от друга самые невероятные злоключения; они оказываются перед лицом верной смерти во всех ее видах; иногда к основной паре прилагаются второстепенные, чья любовь тоже омрачена массой препятствий; и герой, и героиня внушают нечистую и безнадежную любовь другим, которые становятся враждебной силой и грозят окончательно разлучить их, однако это никогда не удается; порой повествование прерывается описаниями города, интерьера или природных красот, для того лишь, чтобы сразу же с новой силой приступить к рассказу о злоключениях влюбленных; и вот наконец на последних страницах все разрешается, все запутанные нити повествования распутываются с детальными и пространными объяснениями и влюбленные остаются друг с другом насовсем, с перспективой жить вместе долго и счастливо.